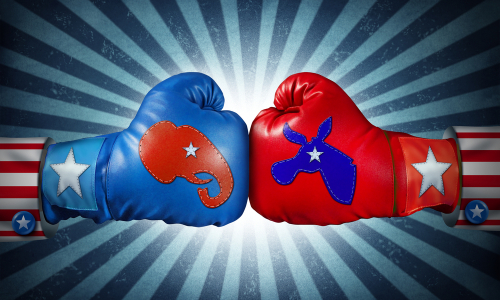Вступление
Импульс к написанию этого текста дал мне Артемий Троицкий, прокомментировавший – к моему большому удовольствию и смущению — мою \»телегу\» о кризисе музжурналистики.
Текст Артемия, как и мой исходный текст, тоже стал предметом живого обсуждения. Я, честно говоря, в эти разговоры не ввязывался, хотя мне было что сказать. Но мне хотелось не столько возразить на каждый тезис, сколько рассказать какую-то свою историю, вообще что-то рассказать. Кстати, Артемий именно так сам и поступает, он много рассказывает, доказывает на примере и уводит дискуссию в сторону. И правильно делает. Потому что, чтобы понять что-то одно, нужно поговорить о многом, походить кругами.
И чтобы это было интересно делать, а потом посторонним интересно читать, надо рассказывать всякие занимательные истории, сбивающие, желательно, с толку. Только для того, чтобы радость окончательного тезиса была неподдельной.
Я сам именно так всегда и поступаю. И сейчас я пойду по широкому кругу, расскажу пару историй и выдвину в финале кошмарный и невероятный тезис, на защиту которого стану полной пафоса грудью. Но повод, кажется, заслуживает некоторого пафоса.
Ещё одно предварительное замечание: мы с Артемием Троицким – не конкуренты, не динозавры на крошечной сцене современной и хоть что-то значащей музыки. Мы с ним во многом согласны, в любом случае, мы говорим об одних и тех же вещах, одним и тем же языком и ценим в музыке одно и то же. А именно? А именно то, чтобы в музыке было, что ценить, музыка должна для человека что-то значить. И виртуозная пустышка – или даже подделка – это плохо, музжурналистика – это во многом шарлатанство, и раньше многое было лучше чем сейчас. Всё это мы все знаем.
И одно то, что Артемий стоит на позиции, что “не всё едино” и даже “не всё проканает”, а так же, что “гнать лажу – стыдно”, делает его моим союзником и соратником.
Артемий любит музыку. И не для того, чтобы о ней писать. Он любит её или грустит о ней, и когда о ней не пишет. И я точно так же.
Для Артемия события, протекающие в мире музыки, показательны для понимания многих прочих событий нашей жизни, для понимания истории. Он смотрит на историю последних десятилетий, зная и понимая историю музыки. И я тоже.
Я вовсе не бьюсь с Артемием Троицким за пальму первенства в русскоязычной музжурналистике и за первое место в сердцах нового поколения меломанов. Что за бред! Я хочу, чтобы Артемия Троицкого было много, чтобы он больше и острее писал, чтобы не падал духом и чтобы было больше других людей – не люблю слова “журналист”, а люблю русское слово “сочинитель” — больше других сочинителей и чувствователей, которые не то чтобы прямо любят гороховскую или троицкую музыку, но разделяют наш драйв. И наше нежелание смириться с существующим положением вещей.
По тексту Артемия видно, что он читал мою книгу “Музпросвет” и понимает, для чего я её писал, и я очень этому рад. Он понимает, что для серьёзного возражения нужно развернуть большую панораму, рассказать большую историю, а также объяснить, кто ты такой, то есть почему ты видишь эту историю и панораму правильно, почему ты заинтересован видеть её правильно.
Да, кое-какая музыка сегодня тоже будет, но мне хочется кое-что сказать. Потому пока, скорее, spoken word, звучащее слово. А оно, как известно, – сила, власть и красота (особенно на Ямайке, WordPower), и для ушей моих самых безумных поклонников – оно куда слаще, чем та музыка, которую я завожу. Так что я сегодня одновременно и радиоведущий, и музыка в паузах.
Собственно, музыка уже пошла. Моя речь напевна, её ритм нестроен. Всё подано довольно сухо, нервно и в лоб. Это был бы эмбиент, и для немецкого слушателя так оно и есть, но в русской песне – самое главное слова, и потому для русскоязычного слушателя моя речь – не эмбиент.
Это, скорее, то, что поэт назвал “глаголом жечь сердца людей”, но не за один раз взять и сжечь, а медленно и долго подпаливать, не давать покоя.
Первый шаг
Артемий Троицкий рассказывает историю своей жизни, своих взаимоотношений с музжурналистикой и музыкой. Я тоже хочу.
Это вообще правильно – время от времени рассказывать историю своей жизни хотя бы самому себе и думать, что же в ней, собственно, было. Это не столько настройка на резкость, сколько настройка на трезвость.
Знаете, какой был первый внятный текст о музыке, прочитанный мной в моей жизни?
Я это хорошо помню. Я учился в девятом классе московской школы №626. В библиотеке за жёлтым столом, сидя перед окном, из которого сияло солнце (в читальном зале кроме меня никого не было), я знал, что выгляжу, как гнусный отличник – в солнечный день в синей школьной форме, сутулый, в толстых очках сижу и читаю журнал, который не дают на дом. Но я знал, что я – не отличник, не ботаник. Я куда больше и страшнее. И именно в этот момент.
Я читал в гнусном комсомольско-развлекательном журнале “Ровесник” статью о группе Deep Purple, которую написал какой-то Артемий Троицкий.
Там шла речь о песне “Child In Time”, пересказывался текст, описывалась музыка – даже не столько описывалась музыка, сколько накручивался психоз на тему вызова перед лицом всемирной катастрофы. Тема одинокого героя, стоящего перед бездной тотального ужаса. Встреча со смертью, когда кончаются слова, потом кончается крик, потом кончается рифф, кончается военно-похоронный барабанный бой и начинается непонятно что, условно говоря, запил гитариста-колдуна Ричи Блэкмора.
Так я это понял, так я, собственно, эту музыку и слышал. Я, честно говоря, вообще не понимал, что мои сверстники находили в Deep Purple и Led Zeppelin, они в этой музыке явно не рубили, они в упор не видели, что это никакая не музыка.
К тому моменту у меня уже был опыт встречи со смертью, в слабой форме, но был. Мне в возрасте 16 лет сделали операцию на протоке поджелудочной железы (до сих пор на пузе шрам) и я видел, как рядом со мной в реанимации умирали люди. Длилось это неделю. Меня это трогало, честно говоря, мало, я был сам еле жив от боли и ужаса, в каждой телесной дырке – по резиновому шлангу, и к тому же заставляют надувать огромного резинового зайца из очень толстой резины. Чтобы работали лёгкие и не возникали спайки. Мне объяснили, что такое спайки, и я надувал пахнувшего тальком зайца, доводя себя до состояния полубреда. А кроме того, мне кололи морфий в лошадиных дозах, кто не знает, морфий – это то, из чего делают героин.
Иными словами, я был крепко озадачен. Разумеется, я уже давно раздумывал о проблеме жизни и смерти, но в тексте Артемия Троицкого я в первый раз в своей жизни увидел это написанным на бумаге. То есть поэтически сформулированную ситуацию экзистенциализма, говоря философским языком.
80-е. Что было дальше?
В 80-х я понял, что рок кончился навсегда, меня заводило разве только что-то из Led Zeppelin (барабанная партия, сдвинутая относительно риффа). Deep Purple и Rainbow я слушал тоже, но у меня было ощущение, что рок чего-то явно не договаривает.
То есть узнать, как оно всё есть на самом деле в нашей жизни, слушая только рок, не удастся. Вроде бы меня зацепили The Clash, но я понял, что мне нравится только первая песня их дебютного альбома. В ней всё сказано, что можно было вообще сказать на языке панк-рока.
Денег, чтобы покупать винил вслепую, у меня не было, школьные друзья куда-то подевались, записи западной музыки до меня доходили во второй магнитофонной копии, магнитофон \»Юпитер\» перестал тянуть. Я купил у фарцовщиков за 50 рублей (это треть месячной зарплаты выпускника мехмата МГУ) диск группы Asia. Я хотел что-то другое, похоже звучащее, сейчас уже не помню что, точно что не Erasure, но в самый главный момент торга c мерзким усатым и пузатым, меня откровенно презиравшим дядькой название вылетело из моей головы и пришлось брать Азию.
Дома я был шокирован тем, до чего дошла гитарная музыка. Денег мне если и было жалко, то только в том смысле, что вот остальные и так знают, что всё это дрянь собачья, а я заплатил за урок 50 рублей.
Иными словами, фарцовщиков я ненавидел сильнее, чем Ленин мировую буржуазию, и не только потому, что “денег не было”, кое-какие деньги были, жизнь в 80-х была довольно дешёвой.
Дело было не в деньгах, не в том, что ГДРовская Eterna стоила 3 рубля, а фирма — 50. Я не мог выносить мерзкой фарцовой породы, этих мятых и высокомерных людей с длинными списками крутых западных альбомов, людей, уверенных, что единственная причина, почему ты не покупаешь музыку у них в предбаннике магазина, а идёшь дальше в торговый зал, это то, что у тебя “нет денег” или ты жмот, или же ты просто в музыке не рубишь, то есть ты — человек второго сорта. Были бы деньги, тут же прибежал как миленький и стал выискивать в их списочках на узеньких бумажечках дорогих твоему сердцу KISS, Velvet Underground, Led Zeppelin и Boney M. Потому что настоящая музыка — именно у них.
Мне же по одному их виду было очевидно, что я не хочу иметь с ними и их музыкой ничего общего. Абсолютно. Какой бы запредельной Металликой они не торговали.
В результате, что происходит в музыке на Западе в 80-х на самом деле, я не знал, и был уверен, что ничего не происходит.
Так или иначе, надо было выходить из положения. Я стал раз в неделю по пути на работу заходить в магазин “Мелодия”, что был в самом начале Ленинского проспекта, напротив Первой градской больницы (я работал программистом в выч.центре Института стали и сплавов, и как истинный компьютерный фрик имел присутственный день в неделю), и из чувства протеста покупать только то, что стояло на полках и никого не интересовало.
Исходил я примерно из такого тезиса: если в музыке есть что-то принципиально важное, то оно есть и в самой неожиданной и непонятной музыке и, скорее всего, далёкой от мира мерзких фарцовщиков. Я скупил горы симфоний Бетховена, ораторий Баха (это всё были ГДРовские диски фирмы Eterna), кое-какой джаз от Владимира Чекасина и вплоть до танцевального оркестра 30-х годов Александра Варламова, гору индийской музыки (настоящие индийские диски появились году в 1985-м), азербайджанской музыки (страстным поклонником которой я остаюсь до сих пор) и Альфреда Шнитке.
Я читал книги про композиторов, чтобы просто знать, что надо покупать, и что там пытаться расслышать. В книгах было много нотных примеров, которые мне ничего не говорили. Но я их читал с огромным удовольствием и в полной уверенности, что фарцеватый рок-мир эти книжки не возьмёт в руки даже под угрозой расстрела. Потому что в этих книжках – приговор рок-миру.
Поскольку рынок классической музыки устроен довольно особо, я был вынужден покупать разные исполнения той же самой музыки – три пятых симфонии Бетховена, три “Гольдберг-вариации” Баха, много версий одной и той же рагги или азербайджанского мугама.
Я, не глядя, схватил “Искусство фуги” Баха в переложении для струнного ансамбля, румынский диск. На обложке стояли совершенные цыгане во фраках и застенчиво так мне улыбались. Я не мог пройти мимо. И правильно сделал, что не прошёл. После этого диска – а точнее, двойного альбома – я понял, что такое скрипичная музыка. Для чего с ней вообще имеет смысл возиться, так сказать.
Я услышал, что различные исполнения, казалось бы, одной и той же музыки (названия грампластинок были одинаковыми, обложки большей частью тоже) реально друг от друга отличаются как небо и земля, что удачное исполнение музыки – это чудо, большая редкость. Что в музыке есть много чего иного, чем грубый драйв. Точнее, что драйвов много, и они разные, разной интенсивности, разной температуры и цвета, и притом – они движутся параллельно.
И что, в любом случае, это музыка не “для головы” какого-то абстрактного “культурного человека”, а для меня.
Если бы я 20 лет назад услышал записи 1934 года Иегуди Менухина, играющего сонаты и партиты для скрипки соло Баха, моя жизнь пошла бы ещё более по-другому. Впрочем, я слышал, как то же самое играет Генрик Шеринг, это тоже будь здоров.
И ещё я узнал – то есть своими ушами услышал — кто такой Глен Гульд и для чего он нужен.
Знаете, что делал Глен Гульд? Он играл фортепьянную музыку очень ровно, без ярких слышимых акцентов и с очень ясными паузами, нейтрально и спокойно. И при этом мычал её себе под нос, то есть в паузах между звуками была музыка, предполагалась музыка, паузы были заполнены музыкой, и после этого я сам начал слышать – не всегда, но я всегда этого стал хотеть – слышать продолжающиеся в молчании шлейфы звуков и пропущенных нот.
И это был для меня шок. Вот вы мне сейчас просто верите, а я это услышал своими ушами без всякого предупреждения. И потому в споре, условно говоря, The Beatles vs. Velvet Underground vs. Джими Хендрикс, я стою на стороне Телониуса Монка.
60-е. Новая тема
Артемий Троицкий говорит (не в точной цитате дело): “Это было СИЛОВОЕ ПОЛЕ такого напряга, что музыка конца 60-х — начала 70-х – то есть Джими Хендрикс, Фрэнк Заппа, Джими Моррисон, группа Can, Кэптн Бифхарт, Velvet Underground — искрила и светилась, потом это исчезло напрочь”.
Тезис Артемия в том, что тогда что-то пёрло само собой, это видно и в музыке, и в книгах, и в фильмах, книг о музыке не было, но они были и не нужны (это очень точное замечание), все всё знали и так, так как это пёрло сквозь всех – и музыкантов, и слушателей.
Потом всё кончилось.
Собственно, что-то в этом духе я сам писал в своей книге, потому разнообразия ради ломанусь в открытую дверь, а точнее – в твёрдую стену. Стена твёрдая и меня живо интересующая, потому биться об неё придётся несколько раз подряд.
Моё возражение такое: а откуда мы знаем, что тогда действительно пёрло само собой?
Что существовал очевидный и всем понятный месседж, что в музыке был смысл?
Мы в Калифорнии в 1968 году не были, и в Нью-Йорке мы тогда не были, и даже в Кёльне, в случае группы Can. Студенты громили Париж, но мы при этом не присутствовали.
Да, меня самого пёрло от Deep Purple и от статьи Артемия Троицкого, и его пёрло, но это было сильно не то.
Мы всю реальную ситуацию Запада конца 60-х знаем по описаниям, мы проектируем свой собственный ужас и вовлечённость на их реальную ситуацию, предполагаемую нами. Ну, типа, если меня сейчас так крутит и вертит, как же крутило их, настоящих, волосатых, крутых и неподкупных? Наверно, в тысячу раз страшнее.
И вот я вам говорю, что, скорее всего, нет.
Нас с Артемием Троицким крутило от Deep Purple сильнее, чем западных хиппи и самих Deep Purple вместе взятых. У нас не было альтернативы, а для них это была норма. Они с этим выросли. Кроме того, они были наркоманами и алкоголиками, так что слышали не столько музыку, сколько шум в своей голове, а меня резало по сухому, как бритвой.
Месседж Фрэнка Заппы? Простите, мне смешно. Это такой же месседж как и месседж Мерилина Мэнсона. Мэрилин Мэнсон – вполне грамотный и литературно одарённый малый, и не лишённый определённого вкуса. Он сам распространяет свои \»телеги\», журналисты только рот разевают, ничего придумывать не надо, как в случае со, скажем, Smashing Pumpkins, готовое в рот кладут. Ну и Фрэнк Заппа распространял про себя \»телеги\». И был очень крупным саморекламщиком.
Это мы только верим, что петь против американского правительства и против войны во Вьетнаме, шутить над идиотами-мещанами и дуть в саксофон с противоположного конца – дико круто. Ничего это не круто, это нормально. Это становится “ах!” только когда умело позиционировано.
Когда я увидел фильм с Джими Моррисоном на сцене – знаете, полуголый в кожаных штанах, с распахнутыми руками, секс-символ, понимаешь… ну, не знаю. Мне было видеть это противно, и живьём мне бы это тоже не понравилось. Я не хочу сказать, что похоже на бой-группу, но всё равно противно.
Про ломание гитар я уже молчу.
Вольфганг Флюр – будущий барабанщик Kraftwerk – выступал со своей группой на одном концерте с The Who, это были его кумиры. Вольфганга крутило не по-детски, то есть не по-английски.
И вот наступает пресловутое ломание гитар (Вольфганг как барабанщик сам гитару разбить не мог и, кажется, немного завидовал). Пит Тауншенд хватает поддельную гитару и, манерничая, её ломает, точнее, она сама разваливается. Вольфганг каменеет за кулисами. Фальшак.
Знаете, что делает честный и искренний немец Вольфганг Флюр, знавший до того британский крутой рок лишь по музыкальным консервам и чужим рассказам? Он бросает заниматься роком и приземляется в архитектурном бюро чертёжником, что он свою “работу по ПТУшной специальности” ненавидит, понятно без слов.
Точнее, там была чуть более длинная история, в его группе ребята стали красиво наряжаться, манерничать, оттопыривать гитару и становиться звёздами. Его вытошнило, и он ушёл. Но ушёл именно от фальши рока. В каком году? Да-да, в том самом, когда всё было настоящее и правильное.
Группа Can?
Ну, это совсем недалеко. Можно пойти и спросить.
Я был, похоже, первым русским, которому Хольгер Шукай дал интервью – меня попросил с ним поговорить Андрей Борисов, снимавший репортаж для своей телепрограммы “Экзотика”. Год был 1995-й. Я, честно говоря, даже не знал, кто такой Хольгер Шукай, это было до того, как я стал музжурналистом, а слушал я тогда Телониуса Монка и арабскую музыку.
Я честно всё за три часа разговора у добродушного старикана выспросил. Он искренно радовался тому, что наконец с ним разговаривает человек, который не знает, кто такие были Can, и которому это можно рассказать как в первый раз. Хольгер меня очень полюбил, и я одно время часто бывал у него дома.
И он подтвердил моё подозрение: в расцвет хиппи-эпохи ничего особенного и не было. Все сидели по своим углам, никто про никого не знал и знать не хотел. Кое-кто был шутником и классным парнем, как сам Хольгер, но ничего он сказать не хотел, просто валял дурака. Ну, и любил музыку. А когда этими вещами одновременно начинает заниматься человек с головой, у него иногда что-то получается любопытное.
Но не больше.
ОК, это немецкие олухи, они ни в чём не рубили, тяжёло больная параличом провинция (примерно так Хольгер, кажется, и выражался).
В сторону: на следующий день я брал интервью у Эдварда Ка Спелла, лидера The Legendary Pink Dots, которых до того тоже практически не слышал. За день до интервью Андрей Борисов дал мне послушать один CD, который мне показался гибридом Pink Floyd и Depeche Mode.
Потому наше интервью крутилось вокруг трёх вопросов: почему вы уехали из Великобритании (парадиза панка и контркультуры) в вялую Голландию, почему вы не Pink Floyd и почему вы не Depeche Mode, хотя и очень похожи.
Андрей Борисов не верил своим ушам и стоял с каменным красным лицом, а Эдвард отнёсся к делу очень серьёзно, долго размышлял и рассказывал, а потом поблагодарил за офигительное панк-интервью.
Я после этого интервью очень много что понял про западноевропейский драйв 80-х, про индастриал и про то, как панки видели, скажем так, Pink Floyd и на каких условиях согласились этим Пинк Флойдом стать.
Но нас-то интересуют “настоящие 60-е”.
Нью-Йорк. Смотрю я по ТВ фильм Энди Уорхолла, в котором играют Velvet Underground – играют музыку. А вокруг все танцуют. Хеппенинг такой. Фильм длинный – сил нет. И показывает только фигуры и лица крупным планом. Молодые люди и девушки, нашпигованные наркотиками по самые зрачки, манерно раскачиваются, поднимают лапки, застывают, кося вороватый взгляд, видят ли их?
Музыкантам откровенно скучно. Они не делают вид (нет, вид они тоже делают), я вижу, что им скучно. И публике скучно. И вялая это публика, если не сказать хуже.
Может, это постановочный фильм? К сожалению, нет. Энди Уорхолл снимал всё, как было в жизни. То есть, конечно, люди видят, что их снимают, но никаких усилий что-то изобразить они не прикладывают.
Они такие и есть.
Когда же это кончится? Скоро.
В 1992 году, когда я приехал в Кёльн, я разговорился с одним видным кёльнским галерейщиком, который пришёл посмотреть мою живопись. Кстати, живопись ему понравилась, но он меня ужасно смутил своей фразой: “Если ты и через пять лет жизни здесь будешь рисовать что-то в таком духе, я заключу с тобой контракт и буду тебя проталкивать”.
Понятно, что контракт мне был нужен сразу.
Галерейщик оказался пророком – уже через год я бросил рисовать, и через пять не начал, а опять взялся после дикого кризиса только через десять лет. То есть он знал, что я такой, каким притащился в Кёльн из, как мне казалось, скучного, банального и провинциального московского андеграунда, сохраниться и выжить не смогу. Как в воду смотрел. Это была одна из магических встреч в моей жизни.
Да, а что же во мне тогда в 1992-м, с пылу с жару из Москвы, было?
Именно пыл и жар. Которого на Западе почему-то не оказалось.
И мы с галерейщиком (не помню, как его зовут, он был одним из совладельцев галереи Йолленбек, она существует до сих пор) говорили о пыле и жаре. А познакомились мы с ним на открытии выставки американского суперхудожника Джеффа Кунса. Тот привёз свою Чиччолину, музу-жену-порнозвезду, в общем, вы понимаете, пускали не всех, было многолюдно и… дико скучно.
И я спросил галерейщика, когда он пришёл смотреть мои неуклюжие и вполне мрачные картинки: “Отчего нам было так скучно, почему нет драйва? Куда ушли 60-е? Хеппенинги, хиппи, студенты, уличные побоища, секс-революция, террористы? Энди Уорхолл?”
А он и говорит: “Что? Не было никаких яростных 60-х. Была та же самая скука, как и сейчас. Ну, я был знаком с Энди Уорхоллом с тех самых пор. И что? Да, ну, нечего рассказать. Тоска. Хеппенинги? Брось, никто на них не ходил, стыдно смотреть, детский сад. Даже вспомнить не о чем.
Вот ты рассказываешь удивительные вещи про Москву. И то, как ты это рассказываешь – удивительно. Если ты и через пять лет останешься таким же, я буду тебя выставлять”.
90-е
Всем известный тезис: то, что делалось в музыке в 90-х, – в техническом отношении интересно, но, вообще говоря, мертвечина и чушь. Куда слабее и менее выразительно, чем Can и Velvet Underground. Вторичная помойка. Эпоха семплирования, ну, вы понимаете.
А я (Андрей Горохов) в не очень понятных целях и с неуместным пафосом раздуваю хайп на пустом месте.
Что тут сказать?
Глупо убеждать, что у кого-то “драйв ещё есть”. Мне проще заявить: меня всё ещё прёт. Меня, конечно, прёт куда слабее, чем в 80-х, я уже далеко не монстр московского андеграунда, стал, так сказать, приличным, но мне далеко не всё равно.
И я знаю (и тут мы подходим к очень важному моменту), что я не один. Что не одному мне шлея под хвост попала, не одному мне не сидится.
Я сразу вижу музыканта, которому не сидится. И я знаю, что Pan Sonic только выглядят, как биороботы западноевропейского типа. Но это, по сути, правильные ребята. И Ян Вернер. И Маркус Попп со своими уволенными им коллегами из Oval. И Маркус Шмиклер. И Джими Тенор. И Феликс Кубин. И Томас Бринкман больше помалкивает и делает свою умца-умца-умца, но и он всё понимает и даёт газу, я слышал его ещё не вышедший новый альбом “Basta!” и видел обложечку, мало не покажется. Томас думает, что его отдадут под суд (ничего там на обложке “этакого” нет, просто фотография молодого Джорджа Буша, украденная из какого-то журнала).
Знаю я и то, что два мужика, спрятавшиеся за берлинским проектом Rhythm and Sound, – правильные люди, горящие медленным синим пламенем. Крайне тихо и незаметно, и вообще не для посторонних глаз, но горящие. И они не говорят с музжурналистами и правильно делают, я сам с ними (то есть музжурналистами) не говорю. А с Rhythm and Sound-ом хотел бы. Но не в качестве музжурналиста и вообще не о музыке. А о чём, догадайтесь?
Но что совершенно точно – эти люди – нормальные, они всем своим видом говорят, что никакого драйва нет и он не нужен, а там, где драйв есть, то есть у Эминема и Мэрилина Мэнсона, он, как выражаются немцы, нет, конечно, не протух, но просто странно пахнет.
И тут мы можем спросить, что же такое драйв?
ДРАЙВ
Драйв – слово английское, обозначает не то чтобы прямо “поехали!”, сколько “погнали!”.
Это ощущение возникает тогда, когда рок-музыка вдруг срывается с места и её несёт по газонам, когда становится не важно, что играют и как, какой текст поют и каким голосом, какие там мелодии и ритмы, и существует ли вообще западная эстрада или нет её.
Прорыв сырой животной энергии. Прорыв не в виде того, что тебе прямо вцепляются в горло ногтями или дают под зад совковой лопатой, но сквозь музыку. И когда музыку понесло, то сносит с места и тебя. Дымит и искрит.
Очень хорошо.
Вот трактор пашет землю. Тянет лямку, кряхтит изо всех сил, еле-еле продвигается вперёд, смотреть противно, да и не на что.
Но представим себе, что тот же самый трактор в том же состоянии выжатого до упора газа приподнимается над пашней. Что происходит?
Гусеницы с дикой силой бросаются вперёд и вращаются в воздухе, прёт дикий лязг, дымит и искрит (режим холостого хода при максимальной подаче газа). Металлист вскакивает из-под берёзы с горящими глазами: \»О! Драйв! Зацепило! Так, так, давай газу!\»
Очень похоже на то, что драйв – это давание газа именно в ситуации отрыва от почвы, от сопротивления среды, от повода давать газ. Давание газа “само по себе”.
Потому-то он так хорошо и даётся, этот газ, что не для пахоты он. Когда на нём пашут, ничего особенного праздному внешнему взгляду незаметно и радоваться нечему.
Почему это именно так (это так, дополнительное соображение, частный случай), видно и по тому, что тех, кто слушал музыку в консервах, на плёнках и на виниле, тех, кто не видел живых The Beatles, Led Zeppelin, The Clash на сцене, втыкало куда сильнее, чем тех, кто их видел. Драйв слушателя за железным занавесом разгонялся от того, что не было контакта с реальной ситуацией Запада, цепляния за неё своими колёсами.
Грубо говоря, увидели бы советские битломаны, какие беспонтовые буржуа и манерники реальные The Beatles или Queen, эти Хлестаковы рок-музыки, зацепились бы за реальность гусеницами, увидели бы, сколько это шоу реально стоит и что за ним стоит, ахов и охов было бы куда как меньше. И меньше слушательского драйва.
И вот мы сидим в 90-х (и в том, что за ними) и думаем: почему же всё такое мёртвое вдруг стало? Почему мертвецы делают мёртвую музыку? Почему не прёт?
Бесполезно мне рассказывать, что “Стену” Pink Floyd в Германии можно найти разве что на блошиных рынках, а в разговоре с серьёзными музыкантами упомянуть “Стену” — примерно то же самое, что в российском контексте у кого-то спросить, что он имеет против Валерия Леонтьева или Филиппа Киркорова.
И дело тут в том, что месседжи современных рок-поп-звёзд – что Эминема, Мэрилина Мэнсона, Radiohead и многих прочих – столь же фальшивая, то есть не обеспеченная внутренней работой и внутренним напряжением чушь, как и их расфуфыренная музыка.
И у звёзд рока, старого, строгого и настоящего, была такая же расфуфыренность и в месседже, и в саунде.
А смысл 90-х в том, что “хватит расфуфыренности!”, хватит набивать себе цену вращением колёс в воздухе и велеречивыми проклятиями по поводу буржуазного общества! Дело надо делать. Пахать. Педаль газа давить, и не на максимум, а столько – сколько надо, чтобы не сжечь мотор, сэкономить бензин, допахать пашню и что-то в этой жизни (и, желательно, музыке) понять.
И если выкинуть мерзкий драйв, расфуфыренность, манерность и позёрство на телеэкране и в душе, то и останется… казалось бы, скучная и неинтересная музыка “ни о чём”. Скучная, как вид медленно ползущего вперёд трактора.
Это очень медленный и аритмичный грув, грув даже не столько самой музыки, сколько отношения музыканта к своему делу, самому себе и жизни.
А если кому-то кажется, что это неинтересно, шумно, некрасиво и невозможно слушать, то единственным ответом может быть: значит, сегодня лучше и не получается, лучше сегодня и не возможно, пашем, стараемся, но, извините, выходит так.
Что такое 90-е? Да-да, Oval и Pan sonic, Rhythm & Sound и Bohren & der Club of Gore, безумные японские коллективы вроде Ruins или Melt Banana, горы импровизационной музыки и чёрт знает чего ещё.
И этого вовсе не мало.
Чтобы десятилетие имело смысл, достаточно одного альбома “Midnight Radio” немецкой группы Bohren & der Club of Gore, 1995.
А при чём здесь пресловутый саунд, якобы появившийся в середине 90-х с развитием халявного семплирования?
Саунд не имеет отношения к семплированию. Те, для кого музыка – не пустой звук, знали, что такое саунд, задолго до середины 90-х.
Саунд – он ведь и в органном концерте Оливье Мессиана, который можно услышать в московской консерватории, — саунд, он на грампластинке бакинского или ташкентского завода – саунд. Медленно движущаяся вперёд параллельными слоями разноцветная акустическая энергия. Не обязательно громкая, не обязательно мощная (хотя бывает и так, что мало не покажется), но обладающая какой то особостью, которая получается только у человека, который борется с сопротивлением материала.
ФИНАЛ
По российским понятиям, чем круче — тем лучше.
По немецким — тоже. Но с одним маленьким дополнением: настолько круто, насколько ты можешь не фальшивить, насколько ты можешь за это отвечать, насколько тянет твой жизненный опыт, твой глаз художника. Крутости самой по себе никакой нет, крутость всегда кому-то для чего-то нужна, она с дерева не падает. И всегда первым встаёт вопрос: кто это сделал и для чего, что за этим вообще стоит? И если тебе нечего подложить под свою музыку, нет за тобой пропаханной полосы, то крутость и честность — в том, чтобы сказать: я в этом участвовать не буду.
И здесь есть три немаловажных момента.
Первое. Радикальность, жёсткость, бескомпромиссность музыки непрерывно возрастали и достигли своего максимума именно в 90-х. Круче некуда.
Всё, что было в рок- и независимой музыке сделано раньше, в смысле радикализма и оголтелости — многократно переплюнуто. Кто видел японское трио Ruins на сцене, тот фильмы про Вудсток смотреть не может. Кто слышал выступление японской рок-группы Melt Banana, не скучает ни по какому року. Просто не по чему скучать. Отрывание голов зрителям на глазах самих же зрителей. Металл и индастриал отдыхают и слушают эмбиент.
Радикал и авангардист Фрэнк Заппа – просто КСПшник, прости Господи.
Второе. В современной приличной и честной музыке нет ахов и охов по поводу её крутости, нет месседжа, нет историй и очевидных проклятий. Но они нам и не нужны. Я как музыкальный журналист знаю цену этим месседжам и этой объяснённой читателю и зрителю крутости. Думаю, и в 60-х цена этому месседжу и этому \»самому собой искрению\» была не выше.
И третье. Я уже более 20 лет крутым считаю совсем другое. Когда я услышал Глена Гульда, я понял, что музыка может, а скорее всего, и должна быть тихой, негромкой и неброской. И если в ней вообще что-то есть, то оно тут и обнажится.
Когда я услышал пение африканцев, индусов, марокканцев, мне стало всё ясно с рок-вокалистами. Когда я услышал джаз и регги, я перестал понимать, как рок-группы – да, самые лучшие – могли вообще играть так, как они это делали?
Когда я начал разговаривать с музыкантами, я увидел, что они живут, они сомневаются, они ни во что не втыкаются, они упираются, им не хочется гнать фальшь и ахинею, им стыдно, что у них почти никогда не получается. Но они и не хотят, чтобы получалось само собой. Делать музыку — стыдное и обломное занятие, это постоянная встреча со своей ограниченностью, бездарностью и безрукостью. Но за такой музыкой – какой угодно электронной – стоит живой человек, который живёт именно сейчас, вместе с нами. И понять его — это, как минимум, значит, понять, что лучше и благозвучнее — просто невозможно.
Нет, мы — западные, восточные, неважно – не зомби. Да, нас не несёт. Это потому, что мы сами несём.
И если кто-то нёс в 60-х, это же прекрасно видно и слышно. Это наш человек. Или в 30-х. Или 300 лет назад. Или не в Западной Европе, а вообще в пустыне Калахари или пустыне Гоби.
Сегодняшняя музыка – хорошая, может быть, лучше всего, что было в этом духе сделано до сих пор. И наконец-то ею занимаются приличные люди. Причём в массовом порядке.
И это очень хорошо.
февраль 2004г.
Андрей Горохов © 2004 Немецкая волна
http://top.mail.ru/jump?from=294202http://top.mail.ru/jump?from=294202