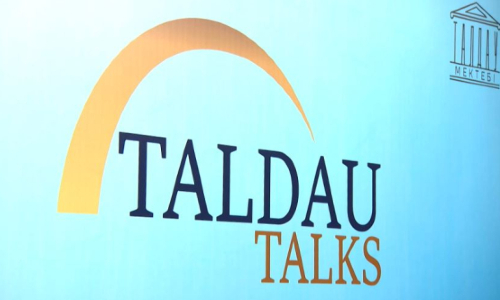Дидар Амантай – главный редактор газеты “Начнем с понедельника”.
Выпускник легендарного ФЭФА КазГУ. Сегодня он не просто философ, а
журналист, писатель, критик современной казахской литературы. И во всех
этих ипостасях он органично вписывается в действительность.
— Как живется главному редактору при обновленном Законе о СМИ? Кстати, в одном из интервью первый министр информации независимого Казахстана Куаныш Султанов назвал их больше техническими, чем идеологическими.
— Прошло совсем мало времени, чтобы ощутить на своей газете, а также и по другим казахстанским СМИ, последствия этого закона. Хотя изменения называются поправками, даже их признали больше техническими, чем идеологическими. В любом случае, это уже другой закон. Главное, чтобы ответственность СМИ перед обществом была равно разделена между СМИ и властью. Законы должны быть адекватны пульсу времени – это и экономические, и политические, и социальные перемены в обществе. И чтобы чутко реагировать на них, мы должны быть достаточно свободными.
— Не все русскоязычные журналисты имеют возможность читать газеты на двух языках в отличие от многих казахоязычных. Есть ли различия в поднимаемых темах?
— Конечно, в идеале мне бы хотелось, чтобы мои коллеги, которые пишут на русском, неплохо знали казахский, чтобы читать на государственном языке, и тогда у них было бы другое восприятие и отношение к казахоязычным СМИ. Я думаю, что двуязычная журналистика в Казахстане – это реальность недалекого будущего, потому что сейчас растет совсем другое поколение и многие говорят уже на трех языках.
Пользуясь случаем, хочу привести один пример. В Европе владение несколькими языками давно вошло в норму. В частности, в Финляндии, где в 2001 году я участвовал в литературном форуме. Я удивился тому, что рядовые члены общества свободно говорят на финском – государственном, а также на шведском и, конечно, на английском, а представители интеллигенции свободно говорят на пяти-шести языках. Вполне возможно, что это результат неимоверных усилий для достижения такой высоты в интеллектуальном прорыве в современном мире. Но теперь, достигнув этой высокой планки, ее будут держать и последующие поколения. Для этого у них есть не только желание, но и отработанные технологии.
Я думаю, что казахская пресса сегодня не такая неадекватная, как думают мои русскоязычные коллеги. Есть много довольно продвинутых журналистов. В общем контексте казахская журналистика в чем-то уступает русскоязычной. Может, по силе воздействия на политические и экономические события в стране и по силе формирования общественного мнения, а также прямого воздействия на электорат во время выборов. Но последние парламентские и президентские выборы показали, что казахоязычный электорат стал качественно другим. И если вы заметили во время последних выборов, этих газет, пишущих на политические темы, стало больше, чем за всю историю казахоязычной прессы. Возможно, этому содействовало возвращение этнических казахов на родину, а также появление читателей, которые выросли за время независимости. Однако после президентских выборов прежняя ситуация вновь вернулась, то есть восстановилось доминирование русскоязычной прессы над казахской. Думаю, что казахоязычный электорат нужен пока только в предвыборный период. И тираж газет увеличивается не столько от того, читабельная это газета или нет, а от количества людей, которые говорят и понимают на этом языке, и поэтому круг читателей казахоязычных СМИ физически изначально ограничен. Он составляет максимум 4 миллиона читателей в Казахстане.
— Значит, прав нынешний министр информации и культуры Ертысбаев, который считает, что многие СМИ возникают, как призраки, во время выборов, являясь инструментом для манипулирования электоратом?
— Появление и исчезновение газет должно регулироваться не политической волей, а экономическими соображениями, то есть рынком. Действительно, во время выборов политическая активность общества повышается и создаются благоприятные условия для появления издательского товара, что является также нормальным явлением рынка. Есть спрос – есть предложение.
— Некоторые политологи считают, что темы в казахоязычных СМИ более патриотичны…
— Такое мнение тоже имеет место, поскольку так было до появления оппозиционных газет на казахском языке, которые стали играть определенную роль на рынке казахских СМИ. В то же время появились адекватные провластные казахские СМИ, конкурирующие с последними. Да, доминирование исторических тем, а также проблема казахского языка видны невооруженным глазом. Тема казахского языка будет подниматься до тех пор, пока язык не только де-юро, но и де-факто станет государственным. Доминирование исторических тем – это и один из минусов казахских СМИ, хотя в начале 90-х годов это было оправдано обретенной независимостью. Казахи впервые за многие десятилетия начали свободно дышать и говорить о судьбе народа, о его трагедии не только во времена Советского Союза, но и царской России. Ведь во времена царизма были закрыты многие казахские газеты – “Казак”, “Айкап”, “Дала уалаятынын газеті”. Народу необходимо было найти удовлетворение в исторической несправедливости, но этот этап уже пройден. Это естественное проявление любого этноса, его инстинкта самосохранения. Но инстинкт самосохранения не должен переходить в нетерпимость и открытый фашизм, ибо в России сейчас появились газеты открыто националистического толка. Такие проблемы имеют место и в Польше, и в некоторых других странах Восточной Европы.
— Все молодые журналисты стремятся попасть на телевидение. Но в последнее время наблюдается тенденция, когда опытные телевизионщики переходят в другие сферы или вообще уходят из журналистики. Что это?
— Да, действительно, телевидение по охвату аудитории сегодня вышло на первое место, опередив кино и другие виды искусства. И не мудрено, что люди стремятся к популярности через телевидение. Телевидение – это прекрасный инструмент для карьерного роста кратчайшим путем. Но ко всему прочему это еще и очень интересное занятие, которое увлекает, а если оно еще и прибыльное… Тогда возможностей очень много, но люди по разным причинам уходят с телевидения. Лично я очень доволен, что более пяти лет проработал на “Хабаре”. Это и работа в программной службе, в новостях, выход в прямой эфир. Этот опыт мне очень помог, когда я стал главным редактором НК “Казахфильм” имени Шакена Айманова. На телевидении я научился искусству монтажа, быстрому построению сюжета. Между прочим, двухминутный новостной сюжет – это нелегкий труд целого дня. Утром съемки, затем кодировка, написание текста, монтаж, озвучивание, а вечером тебе могут сказать, что его необходимо сократить до 1-1,5 минуты. Не сомневаюсь, что это – одна из самых сложных сфер на ТВ.
— Каким образом репортер “Хабара” стал главным редактором главной кузницы кино – “Казахфильма”?
— Я не сразу попал на “Казахфильм”, у меня был опыт работы на “31 канале”, затем я писал свой роман “Цветы и книги”, выиграв грант Фонда “Сорос-Казахстан”. А на “Казахфильм” я попал в 2004 году, когда он поднимался буквально с колен. Если в 2000 году снималось 2 фильма, то через 2 года уже работали над 7-8-ю картинами. Эта планка держится и сегодня. Все фильмы снимаются на государственные деньги. Хотя часто критикуют за то, что финансы не всегда правильно расходуются.
— Сейчас все чаще звучит мнение, что в нашу интеллектуальную среду так и не пришли рыночные отношения. Хотя уже во всех отраслях всем правит рынок.
— Если мы возьмем газетный рынок, то он более-менее сформирован на основе спонсорско-рекламной поддержки, а вот журнальный рынок пока не достиг этих результатов. Рынок телевидения также не сформирован, потому что у нас, во-первых, нет достаточной аудитории. Наш рынок не сформируется до тех пор, пока казахстанская аудитория не будет от 30 до 60 миллионов человек. Тогда, по оценкам специалистов, будут окупаться расходы на телевидение и кино.
— Так значит, по этой логике в той же маленькой Литве нет своего собственного телевидения?
— Я не могу судить о Литве. Есть две вещи, которые развивают рынок и при котором общество процветает. Это либеральная демократия и отсутствие монополии на рынке, причем не только экономической, но и политической. Ортега-и-Гассет в книге “Восстание масс” писал, что для демократии многого не нужно: “Прочность и процветание демократий – какого бы типа и степени развития они ни были – зависят от ничтожной технической детали: от процедуры выборов”. Демократия – это всего лишь техническая процедура, то есть прозрачные законные выборы. А у меня такое ощущение, что у нас к тому же и политическая монополия. Вот поэтому отсутствие двух этих условий уничтожает самоинициативу каждого члена общества, а также активность предпринимательства. Когда нет четких правил игры, участники данного рынка не всегда убеждены в том, что существует законная конкуренция и они получат прибыль.
— Кстати, недавно Досым Сатпаев высказал такую мысль, что журналистика в Казахстане — это продолжение политики, зачастую конъюнктурной…
— Досым Сатпаев отчасти прав, но, с другой стороны, политика бывает не только конъюнктурной, и не только в Казахстане. Я думаю, что любая газета – это, по большому счету, политический проект, особенно в постсоветских странах. В конечном итоге любая газета выражает политические взгляды и интересы каких-то групп людей. В этом отношении он прав. Но, с другой стороны, есть и нейтральные газеты, и так называемая желтая пресса. Я удивился, что в Южно-Казахстанской области существует около 150 единиц казахоязычных газет, а тираж некоторых из них доходит до 150 000. Многие из них аполитичные. Наверное, играет и тот факт, что население этого региона составляет около 2 000 000 человек.
— Дидар, я заметила, что ты позволяешь себе критиковать современных корифеев казахской литературы. Это что – эпатаж или способ оставить свое имя в истории?
— Наверное, это естественно, что я критиковал некоторых современных классиков, потому что я – новое поколение, у меня совсем другие взгляды, и та литература, которая мне близка и знакома, возможно, незнакома им. Они жили и работали при социализме, и у них был ограничен доступ к другим национальным литературам.
Когда я начал заниматься литературной деятельностью, я много читал и на русском, и на казахском языках. Думаю, что я хорошо знаком и с русской литературой, в частности, классической литературой золотого и серебряного веков, литературой периода репрессий, а также оттепели. Помимо этого, знаком с литературой французской, немецкой, японской, итальянской, американской. Некоторые из них были переведены в начале 90-х годов прошлого века, поэтому наши корифеи наверняка не успели их прочитать. Но есть яркие представители казахской литературы, творчество которых мне импонирует. Это Мухтар Магауин, Аскар Сулейменов, Абиш Кекильбаев, Оралхан Бокеев. Несомненны и мои симпатии к творчеству Мухтара Ауэзова, а рассказ “Коксерек” (“Серый Лютый”) считаю вершиной его творчества именно по литературному мастерству. Это выше, чем “Путь Абая”, хотя в этом произведении он добился эпохальности, образности в создании и переплетении судеб и сюжетов. Мне сильно импонируют рассказы Беимбета Майлина, его я обожаю и ценю высоко, следом вспоминается и творчество Абдижамиля Нурпеисова.
— А за что именно ты все-таки критикуешь своих старших коллег?
— Литература многих из них примитивна, хотя они пишут на исторические темы. Я не приемлю их способ изложения, а также построение сюжета. Все это – позавчерашний день. Сегодня современная литература совсем другая. В этом вы убедитесь, если откроете Интернет и прочитаете произведения российских и зарубежных мастеров слова.
— А может, они представители классической литературы?
— Я могу ответить вам словами великого Борхеса. Он дал определение выражению “классическая книга”: “Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продумано, неизбежно, глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования”. Вот поэтому я не считаю их произведения классическими. Меня обвиняют в том, что – я модернист или даже постмодернист, хотя ни к первым, ни к последним я себя не причисляю. А ведь многие даже не имеют четкого представления о том, что такое модернизм. Иосиф Бродский в своем эссе на английском языке “Катастрофы в воздухе” писал: “Модернизм есть лишь логическое следствие – сжатие и лаконизация – классики”. Я разделяю литературный процесс по историческому, духовному опыту человечества на три этапа: классическое время, модернистское, постмодернистское. Это, конечно, условное деление. Все эти термины придуманы литературоведами, чтобы правильно понять друг друга и анализировать. Поэтому этих слов – модернизм, постмодернизм – казахским классикам бояться не надо. Это всего лишь один из алгоритмов общения.
— Что сегодня волнует писателя Дидара Амантая?
— Не хочу казаться пафосным, но меня сильно волнует судьба свободного рынка в Казахстане и демократии. Поскольку они связаны с развитием искусства. Мне могут возразить, что в эпоху греческой и римской империи тоже создавалось прекрасное искусство. И тогда, когда немецкие княжества были разделены на множество стран, тоже развилась великая немецкая классическая философия. Или, например, крепостничество в России – время возникновения великой золотой литературы. Но мы сейчас живем совсем в другом качественном времени. Его можно сравнить с физикой, когда появление квантовой физики, открытие теории относительности Эйнштейна, или появление в классической математике такого понятия, как евклидова геометрия, перевернули представление о мире. Мне кажется, нам надо спешить. И вообще, я считаю, что история человечества – это история освобождения человека.
— Тебе не грустно от того, что люди все меньше и меньше читают…
— Раньше у советских людей было ограниченное количество сфер для времяпровождения, поэтому они ходили в театр, в кино, читали и играли в шахматы. И все эти виды искусства тогда обрели массовый характер. Так что количество читателей меня не волнует. Как сказал мой друг, писатель Шамшад Абдуллаев, самая лучшая книга должна издаваться тиражом в сто экземпляров, “как редкие люди”. Сейчас мы определились с терминами “качественная литература” и “массовая литература”. Мы также определились в том, какой писатель – коммерческий, а какой создает настоящее литературное произведение.
— А свое творчество ты к какому жанру относишь?
— Фрэнсис Коппола в начале своего творчества снял “Крестного отца”, а потом “Апокалипсис”. Возможно, эта параллель не совсем скромна. Я хотел бы сказать, что, пока не занимался никаким коммерческим, литературным проектом. Если в будущем меня заинтересует хорошая тема, мне хотелось бы написать в таком духе, как пишет великий писатель современности серб Милорад Павич.
Элитарное искусство и массовое существовало во все времена. И как писал один из идеологов модернизма поэт Томас Элиот: “Массовая культура всегда будет подменой культуры, и раньше или позже более разумные из тех, кому она была подсунута, обнаруживают, что они были обмануты. Существенные условия для сохранения качественной культуры меньшинства в том, чтобы она всегда оставалась культурой меньшинства”. Литературовед Уильям Хэзлитт добавляет: “… Публика читает что-либо, восхищается и превозносит это не из любви к предмету и человеку, а только потому, что это модно”. Я убежден, что высокое искусство, которое проповедуется многими художниками в нашей стране, должно поддерживаться государством, потому что именно они продвигают искусство и культуру вперед.
— В чем феномен Коэльо?
— К сожалению, Пауло Коэльо не годится даже в ученики Милораду Павичу. А в том, что он до сих пор не получил Нобелевскую премию в области литературы виноваты Балканская война и нелюбовь европейцев и Америки к сербскому народу. Тем не менее, я считаю его величайшим писателем современности. Мне очень нравятся писатели, пишущие на философские, метафизические темы, а также и беллетристика. Лучшая беллетристика – это лучшее выражение писательского таланта. Многие относятся к Сомерсету Моэму, как к “легкому” писателю. Я же думаю, что он был мастером конструирования сюжетов.
Мне также нравится французская новеллистика 1940-50-60-х годов прошлого столетия. И немецкоязычная проза – Томас Манн, Франц Кафка. Мне была интересна японская литература. Это Рюноскэ Акутагава, Ясунари Кавабата. Мне импонировал и писатель, который писал на иврите и на идише, Агнон, получивший Нобелевскую премию, и арабоязычный писатель Нагиб Махфуз также лауреат этой премии. Из русских стилистов считаю непревзойденным Бунина. Его “Антоновские яблоки”, “В Париже” и другие рассказы написаны так, что от них благоухает русским бытом. Это величайшее мастерство. Мне также импонирует Юрий Казаков, хотя некоторые его считают “легким” автором. Я очень удивился, узнав, что до переживаний о приближении своей смерти великий Достоевский был лириком. Мне интересна американская литература, также латиноамериканская. Когда у Габриэля Маркеса спросили, что, кому и чем обязано появление магической латиноамериканской литературы, он ответил, что Кубинской революции. А на вопрос почему, мастер ответил, что когда они таскали свои произведения по местным издательствам, издатели не хотели их печатать, потому что все вокруг одинаково писали. А после Кубинской революции взоры всего мира были направлены на Карибский бассейн. Люди поняли, что там существует совсем другая сюрреалистическая литература. С этого началось ее восхождение.
Очень интересно выражение Умберто Эко, сказанное в одном из интервью, о том, что сейчас он не может отличить в своих произведениях собственные слова от текстов исторических документов.
Конечно, мне нравятся Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю. Работы последнего я изучал на философском факультете. Возможно, под их влиянием у меня другие взгляды на казахоязычную литературу, и вследствие этого я не был воспринят. Но сейчас все привыкли, что я есть.
“Central Asia Monitor”