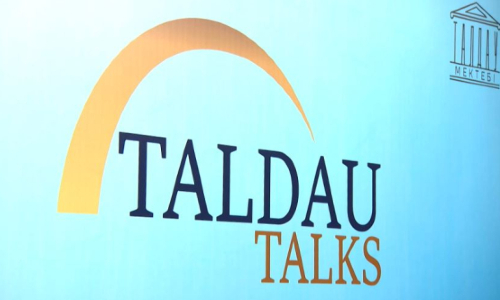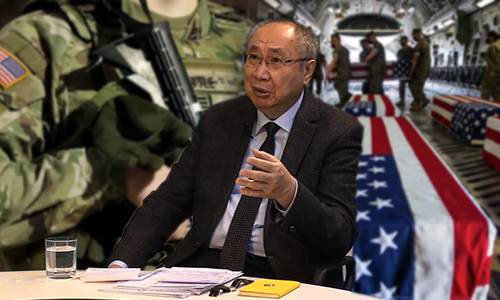На прошлой неделе в Алматы завершил свою работу Евразийский медиа-форум. На форуме обсуждались вопросы политики мирового масштаба. Когда обсуждаются глобальные процессы, то, казалось бы, журналистам “местного” значения там делать нечего, кроме репортажей из кулуаров. Однако даже в этих же кулуарах можно обсудить и свои “земные” вопросы. И в один такой момент нам под руку “попал” не кто иной, как сам министр информации и культуры господин Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ.
И наш разговор начался как раз с этого же вопроса: наш ли это удел – мировая политика?
– Я думаю, Евразийский медиа-форум предназначен и для журналистов, и для политиков, и для большой зрительской аудитории читателей, и телезрителей. Предназначение самой профессии журналиста быть посредником между событием, которое происходит ежедневно, и аудиторией, в данном случае речь идет о зрителях и читателях. Поэтому вычленять и разделять мероприятие только для журналистов, мне кажется, было бы ошибочно.
– То, что планируют организаторы форума, например, отечественных журналистов не всегда устраивает… Они-то ориентируются на потребность своих читателей. А эти потребности, как нам кажется, связаны с насущными вопросами, которые волнуют наши регионы.
– Потому провести семинар, какой-нибудь тренинг и собрать только журналистов, которые будут обсуждать специфические, только узкие свои проблемы в прессе, легче, чем организовать международный медиа-форум. Такие форумы должны отвечать интересам не только местных журналистов, но и гостей, которые съехались на него со всего мира. В целом, форум построен правильно. Мы не можем уходить от политики, потому что политика на самом деле, внешняя и внутренняя, это стержень СМИ как таковых. Откройте любую газету, вы увидите, она сплошь и рядом пронизана политикой. Помимо других тем политика всегда доминирует, потому что интересна читателям. Это предназначение прессы. Политика – это искусство управления государством. Вопросы политики интересуют самые широкие слои населения. Поэтому я не совсем согласен с вашей постановкой вопроса.
– Не согласиться – ваше право, мы задали вопрос, волнующий казахстанских журналистов, которые освещали работу медиа-форума. Кстати, многие из них и еще независимые эксперты отмечают, что из года в год медиа-форум превращается в “тусовку семьи Назарбаевых”…
– Это мнение в основном идет из оппозиционной среды, которая находится в перманентной конфронтации с Даригой Назарбаевой. Я считаю, что медиа-форум, наоборот, с каждым годом поднимает свое значение и статус. Я глубоко убежден, что форум стал не только крупным событием в общественно-политической и информационной жизни Казахстана, но и всего Евразийского континента.
– Ермухамет Кабидинович, думаю, этот пинг-понг бесполезен для наших читателей, т.к. вы за власть горой стоите. Перейдем лучше к другим вопросам. Например, на этой неделе вышел 300-й номер издательского проекта “DАТ”, последний могикан которого – газета “Тасжарган” зарегистрирована… вашим приказом…
– Мое пожелание только одно, газета должна быть газетой. А не революционной прокламацией, не пропагандистской листовкой. Потому что мы живем в ХХI веке, и главное предназначение газеты – это информировать граждан обо всех событиях, которые происходят. Если газета хочет быть серьезной и статусной, расширять свою читательскую аудиторию, то она должна стремиться охватить если не все слои и группы населения, то, во всяком случае, серьезно расширять читательскую аудиторию, а не акцентировать внимание перманентно на протяжении многих лет только на одной теме: Карфаген должен быть разрушен”!
– Если бы не было “Карфагена”, то в течение девяти лет “DАТ” кого бы контролировал и кому бы “открывал” глаза? Опять же, к Вашему сожалению, наверное, эту “революционную прокламацию” народ ищет и до дыр зачитывает. Значит и они заинтересованы в том, чтобы изменить порядки в “Карфагене”…
– Я этого не отрицаю. Кроме того, я считаю, что такая газета имеет право на существование, у нее есть свой читатель, к которому долгое время обращается газета. Я просто последние два-три года заметил по себе, по моим знакомым, чиновникам, к сожалению, что “DАТ”, “Республика”, “Свобода слова” и ряд других оппозиционных газет – все говорят хором одно и то же, что на чтение уходит две-три минуты. Потому что там нет информации, а есть идеология. Идеология – она построена на чувственном сознании. Нет рационального подхода, есть некий иррациональный подход. Идеология – она быстро надоедает. Мое пожелание, я не говорю, что вы должны изменить идеологию газеты, это ваша редакционная политика, это ваш политический выбор. Я хочу вывести вашу газету на новый качественный уровень и обратить внимание на то, что произошли значительные перемены за эти девять лет, а вы остались на уровне начала двухтысячного года.
– А что нам делать, если “Карфаген” так живуч?! А вы хотите, чтобы мы перестали с ним “бодаться”…
– Я ведь имею право на свое мнение?.. пусть оно будет ошибочным…
– Конечно, Ереке… Но почему-то с этим мнением, хотя Вы – опытный политик, в последнее время так часто попадаете впросак? Например, сегодня газета “Время” подала на Вас в суд…
– Я могу сказать одно, они не равнодушны ко мне. Я ведь сам не подаю в суд на газету, хотя они меня всячески третируют, были оскорбления достаточно сильные, резкие, когда в пылу споров не выбирают выражений. Но вы поймите, что произошло в моем конфликте, допустим, с газетой “Время” и с телеканалом “Эра-ТВ”? Там же нет, с точки зрения законодательных и нормативных правовых подходов, конфликта в области свободы слова. Это был момент политической борьбы, политической полемики, в которой оппоненты часто не выбирают выражений.
Поднимите газеты 2004-2005 года, когда я полемизировал с “Ак Жолом” или с Булатом Абиловым. Мы “наезжали” друг на друга, не выбирая выражений. Он и я, те, кто понимает, что такое политический процесс, спокойно относятся к таким выражениям. Потому что это политическая борьба, но все равно надо, я соглашусь, выражения выбирать. Поэтому я работаю активно, не просто говорю, предпринимаю конкретные шаги в области создания конкурентоспособного информационного пространства, предпринимаю ряд законодательных инициатив, а это некоторым элитным группам не нравится. Они, на мой взгляд, используют отдельное печатное издание, отдельных функционеров от журналистских организаций, которые организуют нападки на меня. Это не первый раз за год и три месяца, с тех пор как я стал министром. Никаких обид ни к кому у меня нет. И я готов к любым нападкам, готов терпеть их, при этом никогда не подавать в суд на прессу.
– Когда Вам было легче работать: советником президента, когда Вы не отвечали за конкретную отрасль и даже за высказывания в прессе или в более высоком статусе министра, когда и отвечать надо за все дела отрасли и принимать удары своих же подопечных?
– Легко было работать, когда я был комсоргом института: была одна партия, одна идеология, одна пресса. А сейчас началась такая нервная, сознательная жизнь и другой не будет. И я не задаюсь вопросом, когда было легче работать? Работа министра достаточно тяжелая. Ненормированный рабочий день, новый премьер-министр задал очень жесткий даже для здорового физического организма ритм работы. Он – человек амбициозный, тоже хочет войти в историю Казахстана как самый успешный реформатор на должности премьер-министра и намерен внедрить в практику то, о чем раньше в правительстве много говорилось. Но чтобы закрыть тему о нем, я сошлюсь на президента. Однажды в своем выступлении он дал высокую оценку всем премьер-министрам, начиная с Кажегельдина и заканчивая Тасмагамбетовым и Ахметовым. Каждый из них выполнял определенную задачу, на определенном этапе реформ, достаточно хорошо работали.
– Говорят, что тендер на телечастоты проведен несправедливо, что многие желающие не успели подать документы?
– У вас неверная информация. На тендере участвовало очень много СМИ. В тендерной комиссии 17 человек, 12 присутствовало, в том числе представители сената и мажилиса. В начале, перед тем как телевизионщики к нам заходили на комиссию, там было консолидированное решение всех членов комиссии: отказать всем телеканалам, которые не соблюдают главные нормы. Это – пятьдесят процентов вещания на казахском языке, и те, которые нарушают нормы ретрансляций российских программ, которые не должны превышать двадцать процентов от всего эфирного времени. У нас эти документы и материалы были на тот момент, и могу это документально доказать.
– Какие каналы были отвержены по этим причинам?
– 31 канал, КТК, Рахат, Эра-ТВ – те каналы, которые потом участвовали в информационной войне против меня. Кстати, когда были объявлены результаты, в кулуарах тогда мне говорили, что это даром не пройдет, придет, мол, время – они себя покажут. Я бы не назвал это угрозой, но были такие предупреждающие разговоры.
– Кстати, о телеканалах, у нас есть информация о том, что телеканал “Казахстан” в скором времени будет продан группе компаний олигарха Машкевича. Соответствует ли этот слух правде?
– Это полная чепуха! Сто процентов акций принадлежат государству, и никому никогда, пока я министр, и даже последующий министр никогда эти акции не будет продавать олигархам. Это единственный государственный канал, диапазон которого покрывает 98 процентов территории Казахстана, и нам очень важно сделать мощный государственный канал. Потому что населения в Казахстане немного, территория громадная, мы находимся между Россией, Китаем и мусульманским миром в плане конкуренции с другими телевизионными каналами из этих стран. А сейчас уже 83 зарубежных канала вещает на Казахстане. Нам очень важно иметь сильный государственный канал!
– Когда Вы говорите о диапазоне охвата ТВ-сигналов, нам вспоминается сеть распространения печатных СМИ. Например, такие монополисты как “Казбаспасоз” и “Дауыс”, которые имеют свои филиалы во всех регионах республики, отказывают независимым изданиям, которые оппонируют власти, в предоставлении своих услуг. Вам это известно?
– К сожалению, сети распространения – не наша сфера. Они принадлежат к “Казпочте”.
– А вас, как министра, не волнует то, что большинство отдаленных населенных пунктов Казахстана не могут получить желаемую газету, кроме “Егемен Казахстан” и “Казправды”?
– Конечно, волнует. Скажу больше. 15 января состоялся тендер, прошло три месяца, до сих пор “Астана канал” и “Риа-Арна” не получили от Казтелерадио разрешения на установку передатчиков на телевышках. Об этом я намерен доложить президенту. Получается странная картина — с одной стороны раздаются голоса с требованием свободы слова, за честную и свободную конкуренцию на телерынке Казахстана, с другой стороны, факты говорят о другом: торпедируется такая возможность. Моя задача состоит в том, чтобы слова не расходились с делами, чтобы в Казахстане было для начала 5-7 крупных телегруппировок, которые на базе конкуренции могли бы честно поделить и рекламную продукцию, и эфирную популярность. Поскольку борьба будет за рекламную продукцию, борьба за читательскую и телевизионную аудиторию, то станет очень выгодно работать, соблюдая Конституцию и закон о СМИ, свободу слова. Очень выгодно будет нести телезрителям и читателям объективную, правдивую, беспристрастную информацию. Только такой канал сможет стать конкурентоспособным и выжить. А канал, который будет слепо выполнять установки своих учредителей — хозяев, он не имеет перспективы.
– Ереке, у нас есть и такой вопрос, не самый приятный для вас. Нам в редакцию поступило письмо, где указывается, что после трех месяцев вашей министерской должности, между вами и председателем комитета Нурланом Нургазиным возник конфликт. И он был вынужден уйти, бросив все бумаги Вам в лицо. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
– Никаких конфликтов, как описано в вашем письме, не было. Нургазин ушел по собственному желанию. Несмотря на то, что он неплохо знает прессу и телевизионную сферу, имеет определенный опыт на телевидении, но как чиновник, к сожалению, не состоялся. И неоднократно были разговоры на эту тему, потому что чиновник, как функционер, должен быть очень дисциплинированным, с точки зрения той же документации, ведь над нами правительство и администрация президента. Просроченные документы администрации правительства — это очень большой минус для руководства министерства. У меня состоялся в конце декабря обстоятельный разговор с Нургазиным на эту тему, и он сказал, что напишет заявление, мы расстались совершенно по-доброму.
Есть такое слово “бюрократия”, которое состоит из французских двух слов “канцелярия” и “кратос”. Чиновник должен обладать такими качествами: в поле рутинной суеты, часто скучной, очень много бумажных работ, которые не видны для широкой аудитории, происходят определенные срывы, а это сказывается на мне. Естественно, министру задается вопрос, почему не сформирована такая команда, чтобы не было никаких срывов и не было никаких замечаний. У меня состоялся разговор откровенный на эту тему, и я предлагал Нургазину возвратиться на телевидение, потому что там работа энергичного характера, и бумаг, различных гораздо меньше, чем на должности председателя комитета по информации и архивам. Он отказался, потому что наметил себе другую деятельность.
– Как у вас обстоят дела по изучению казахского языка? Какие шаги предпринимает Ваше министерство по развитию государственного языка?
– Жаман емес, жаксы. Уйренiп жатырмын. Наше министерство это единственная правительственная структура, которая с первого января полностью перешла на делопроизводство на казахском языке. В прошлом году в бюджете было около пятисот миллионов тенге на развитие казахского языка. Но мы, с помощью депутатов, увеличили бюджет на 2,7 миллиарда тенге. И мы намерены масштабно внедрять его, чтобы были конкретные результаты. Ежегодно по десять тысяч чиновников смогут сказать, что они изучили казахский язык. Потому что к 2010 году делопроизводство в государстве полностью переведут на казахский язык. Как деньги тратятся, следит премьер-министр и существует госкомиссия по языкам. Туда входят депутаты и сенаторы, мы обсуждали неоднократно этот вопрос.
Есть идеи провести не чемпионат, не олимпиаду, а конкурс среди молодежи. Чтобы стимулировать тех, кто не владеет языком, допустим, победитель конкурса сможет получить 50 тысяч долларов. Тогда родители сами будут заинтересованы в таком выигрыше и скажут: “изучай, нас сможешь обеспечить на всю оставшуюся жизнь!”. Сейчас такая тенденция, очень многие русские, украинцы, немцы, особенно молодежь, начали изучать казахский язык. Когда выбирали телеведущих на ТРК Казахстан, восемь девушек славянской национальности продемонстрировали, что все они великолепно читают на казахском языке, во всяком случае, по бумаге.
– Вроде, неплохой показатель, но смысл такой политики в чем? Почему отбор дикторов шел только из других национальностей, кроме самих казахов? Неужели лицо казахского государственного канала должно быть непременно другой национальности?
– Это такая политика, глава государства дал установку министерству принимать побольше людей неказахской национальности, владеющих казахским языком.
– С чем это связано?
– Потому что произошли большие перемены в Казахстане за 15 лет. Успехи в экономических реформах очевидны, уровень жизни вырос, и наметилась такая тенденция, с точки зрения национальной, гражданской самоидентификации очень многие люди пришли к необходимости без всякого “давления сверху” изучать казахский язык. Это очень хорошо, мы должны поддерживать такие начинания.
– Кстати, когда мы говорим о казахском языке, вспоминаются некоторые факты, что средства, которые государство тратит на обучение языка, сегодня используется в основном на тренинги и обучение только чиновников… А простому народу это по-прежнему недоступно?
– Дело в том, что министерство образования имеет четкий стандарт: аттестаты зрелости средней школы и диплом о высшем образовании. Это образовательное учреждение. Министерство по языкам — это больше идеологический и пропагандистский комитет, он не дает никакого диплома или сертификата. Нам очень важно стимулировать и провести такую политику, чтобы через комитет по языкам внедрять изучение казахского языка и трехъязычие во всех слоях населения. Это в значительной степени идеологический комитет. Основа его в масштабно-качественном внедрении, прежде всего, в средней школе. Нужно время, чтобы восстановить казахский язык, и мы восстанавливаем.
– Ереке, вы на форуме публично заявили о моратории на статью о диффамации (клевете) в законе о СМИ. Что Вы под этим понимаете, прокомментируйте нам?
– Есть мысль о том, чтобы собрать в Министерстве культуры и информации журналистские организации, парламентарии, представителей министерства внутренних дел и обсудить этот вопрос. Мы, в принципе, уже собирались по этим вопросам. Освобождение журналистов от уголовного преследования по статье о клевете, перенос этой статьи в чисто административный кодекс, одно из направлений деятельности нашего министерства. Я об этом на медиа-форуме сказал, ОБСЕ принял, если не восторженно, но положительно приветствует этот шаг, и ряд других шагов в области либерализации законодательств СМИ мы намерены предпринять.
– Получается, что Вы ради поста председателя Казахстана в ОБСЕ готовы пойти на любые популистские шаги?
– Какая разница, главное пойти на этот шаг. Само даже председательство в ОБСЕ будет обязывать всю элиту Казахстана, руководство страны, чиновников проводить, прежде всего, политическую модернизацию в демократическом русле не на словах, а на деле. Вообще “диффамация” на всех граждан должна распространяться, не только на журналистов.
Поскольку существует форма полемики не только в газетах, но и в электронных СМИ, на мой взгляд, от преследования по статье о диффамации должны быть освобождены все граждане. Если каким-то боком, не будучи журналистом, гражданин вылез в эту дискуссию и высказал нелицеприятные слова в твой адрес, то могут его легко наказать. Вот я и предложил, пока изменения не будут внесены, объявить мораторий на такие иски, не рассматривать их. А изменим законодательство, никакого моратория уже не понадобится. Я, во всяком случае, двумя руками “за”. Потому что у меня есть собственный интерес. Спорный в том, что я, как гражданин страны, пользуясь свободой слова, говорю открыто, а на меня моментально подают в суд, требуя наказать меня за то, что я сказал.
– О конфликте в селе Маловодном немало говорилось в СМИ. Там описывали, что было и как было, но теперь за информирование населения хотят наказывать журналистов. Как вы считаете, почему журналистов сразу обвинили за версии о межнациональных конфликтах?
– Это определенное кризисное явление на региональном уровне, я имею в виду события в Атырау, Чилике, Маловодном, Казаткоме. Местным акимам надо на местах анализировать общественно- политическую, социально-психологическую ситуацию в регионе. Надо предотвращать то, что происходит в регионе, а не сваливать все на журналистов. Конфликт, который начался между Махмахановым и местным парнем во время игры в бильярд, не случаен. Они же не с луны свалились, все к этому вело, достаточно было малейшего повода, который привел к таким результатам. Надо усилить региональную политику. Власть, прежде всего, должна отвечать за данный случай.
“Тасжарган” № 16 (44) от 26 апреля 2007 г.