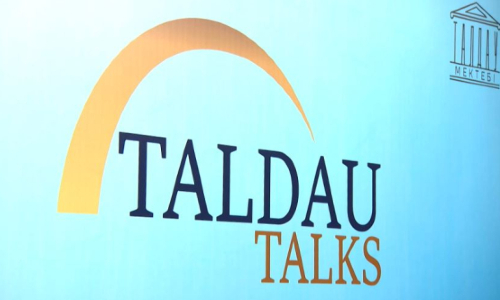Несмотря на тотальную смену общественной системы, кардинальные изменения социальной структуры последних 15 лет, в обществе все еще сохраняются прежние априорные представления, стереотипы об интеллигенции. В том числе: об исторической и страновой универсальности интеллигенции, ее приверженности демократии, национализме “алашской интеллигенции”, властном потенциале (альтернативности власти) интеллигенции, сохраняющейся значимости ее в социальной структуре казахстанского общества.
Ложные стереотипы или мифы об интеллигенции лишь на первый взгляд некоего абстрактного, теоретического толка. В действительности они имеют вполне реальное прикладное значение. Порождают конкретные социальные (иллюзии о собственном статусе), политические практики со стороны причисляющих себя к интеллигенции (деятельность ряда партий, движений), необоснованные трактовки истории Казахстана XX века.
Миф первый: Интеллигенция – универсальная для последних полутора столетий, различных стран социальная группа, включающая работников, профессионально занимающихся умственным трудом. Одно из наиболее распространенных, среди сотен других, определение: “Интеллигенция (от лат. intelligens – понимающий, маслящий, разумный), общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры” [Новый энциклопедический словарь. – М., 2001. – С.435].
Как сам термин, введенный в оборот в 1860-е годы русским писателем П.Д.Боборыкиным, так и обозначаемая им социальная группа, — чисто российское “изобретение” и явление. Получившее распространение в России во 2-й половине XIX – начале XX веков, и позднее, в СССР. В двуязычных и толковых словарях, наряду с латинской этимологией – лат., нередко приводится уточняющее указание на происхождение термина – рус. В западных странах термин “интеллигенция” не распространен. Широко известно и используется неравнозначное термину “интеллигенция” понятие “интеллектуалы”.
Словосочетания “американская интеллигенция”, “английская интеллигенция”, “японская интеллигенция” в западной литературе исключены. В советской – крайне редки, искусственны, абсурдны.
Есть ли интеллигенция (в российской, советской трактовке понятия) на Западе? Очевидно, что нет. Во-первых, если на Западе интеллектуалы объединяют в основном “генераторов” культурных ценностей, то в дореволюционной России, позднее в СССР, интеллигенция обычно включала как создателей, так и распространителей или “ретрансляторов” культуры. Во-вторых, поскольку интеллигенция, как правило, определялась не только функционально, но и как носитель некой высокой нравственности.
Ни расширительная трактовка понятия интеллигенция, ни особые высокие моральные качества, как обязательный атрибут, родовой признак интеллектуалов, для западных обществ не характерны. Таким образом, интеллигенция в российском/советском и отчасти постсоветском значении – не универсальное, а относительно локальное явление, что подтверждает и ставшее избитым определение “феномен”.
Миф второй: Интеллигенция в целом, как социальная группа, как правило, привержена демократии, “должна” быть оппозиционна к власти. Данный стереотип был анализирован почти столетие назад в сборнике “Вехи” (1909). Авторы сборника – известные российские ученые Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, М.О.Гершензон, П.Б.Струве и др. представители либеральной интеллектуальной элиты. В основном, кадеты, либо близкие по политическим взглядам к кадетам (к.-д. – конституционно-демократическая партия или “партия народной свободы”, “профессорская партия”).
Принципиальны три тезиса “веховцев”:
1. Необходимо четко разграничивать “интеллигенцию” и “образованный класс”.
2. “Образованный класс” привержен либеральным ценностям, “интеллигенция” – радикальному социализму, “народопоклонству” (т.н. “служение народу”), “отщепенству от государства”.
3. Идеология интеллигенции тоталитарна, враждебна демократии.
П.Б.Струве отмечал: “До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только “образованный класс” и разные в нем ответвления… Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность ему… весь русский либерализм считает своим долгом носить интеллигентский мундир, хотя острая отщепенская суть интеллигента ему совершенно чужда” [Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Вехи. – М., 1991. – С.151, 139, 143].
В дореволюционной России в образованных кругах считалось правилом хорошего тона, признаком некоей “прогрессивности”, сочувствие и даже прямая поддержка народников, затем эсдэков, эсеров, анархистов и прочих леворадикальных революционеров и бомбистов (террористов), вокруг которых был сотворен некий романтический ореол героев-мучеников в борьбе за народное дело. Что нашло яркое отражение в русской литературе второй половины XIX – начала XX веков в книгах Чернышевского, Тургенева, Толстого и других писателей того времени.
Судьбы интеллигенции как нельзя более точно отражают афоризм “за что боролись – на то и напоролись”. Та же оппозиционность интеллигенции власти (“отщепенство от государства”) сохранялась в советский, отчасти и в постсоветский периоды. В ходе гражданской войны 1918-1920 гг. была уничтожена и изгнана большая часть “образованного класса”, затем, в 1920-1930-е годы наступил черед репрессий эсеров, анархистов, умеренного крыла эсдеков (меньшевиков), а затем, и части эсдеков-ортодоксов (большевиков).
В 1960-1980-е годы интеллигенция продолжала сохранять свое “родовое” свойство – оппозиционность власти. В различных проявлениях. От “кухонных посиделок”, эскейпизма в различные философские, культурные течения, до диссидентского движения. В том же русле саморазрушительная в отношении собственного будущего статуса, разрушительная в отношении государства роль интеллигенции в период перестройки.
Миф третий: Национализм “алашской интеллигенции”. Данный стереотип сложился еще в 1920-е годы и сохраняется поныне. Включает в себя, в том числе, отнесение первого поколения казахского “образованного класса”, лидеров движения “Алаш” к интеллигенции, традиционализм и антизападничество якобы присущие интеллектуальной элите.
Национально-освободительное движение “Алаш” возникает как крыло партии кадетов в Казахстане (1905), позднее перерастает в партию (1917, июль), формирует правительство “Алаш-Орда” (1917, декабрь). Характерна позиция лидеров движения председателя правительства Алаш-Орды Алихана Букейханова, глав правительства Туркестанской автономии Мухамеджана Тынышпаева и Мустафы Чокая.
Лидер движения “Алаш” Алихан Букейханов (1866-1937) – член партии кадетов (1905-1917), с 8 съезда партии (май 1917) – член ЦК к.-д. или “Партии народной свободы”. Вышел из партии к.-д. в связи с разногласиями по земельному вопросу и занялся созданием партии “Алаш” (1917, июль). При оценке представителей движения “Алаш”, принципиально важно, что лидеры “родственной” “Алаш” партии кадетов (“профессорской партии”) еще в 1908 году в сборнике “Вехи” однозначно заявили о своей принадлежности к “образованному классу”, а не к “интеллигенции”, подвергнув последнюю жесточайшей критике.
О традиционализме и антизападничестве. Алихан Букейханов относил себя к “западническому направлению” общественного движения казахов, которое “видит будущее киргизской [казахской] степи в сознательном претворении западной культуры – в самом широком смысле этого слова” и “возьмёт за образец… в частности Партию народной свободы” [Букейханов А. Киргизы // Формы нац. движения в совр. гос-вах. – СПб., 1910. – С.599].
Депутат II Государственной думы Мухамеджан Тынышпаев в одном из писем (1907, 8 апреля) заявлял: “Меня почему-то считают левым или даже крайне левым. Мне незачем скрывать своей политической физиономии – я кадет, а не левый … Я везде и всюду искал примирения интересов общественных и киргизских [казахских] и программа к.-д. вполне разрешает этот вопрос” [ЦГА РК, ф.44, оп.1, д.2584, лл.208-209].
Опубликованная 21 ноября 1917 г. программа партии “Алаш” состояла из 10 статей и включала утверждение демократической федеративной республики, национально-территориальную автономию Казахстана в составе России, парламентско-президентскую форму правления, разделение ветвей власти, прямое, равное и тайное голосование, отделение религии от государства, равенство всех независимо от национальности, вероисповедания, пола перед законом [Программа партии Алаш // Алаш-Орда: Сб. док-тов /Сост. Н.Мартыненко. – А.-А., 1992. – С.88-91].
Правительство Алаш-Орда во главе с Алиханом Букейхановым было образовано 5-13 декабря 1917 г., ликвидировано (Западное отделение правительства Алаш-Орды) 5 марта 1920 г. Правительство Туркестанской автономии (в советской историографии – “Кокандской автономии”), возглавляемое сначала Мухамеджаном Тынышпаевым, а затем Мустафой Чокаем сформировано 26 ноября 1917 г., ликвидировано 6 февраля 1918 г. Съезд, провозгласивший автономию Алаш, постановил образовать правительство (временный народный совет) “из 25 членов, 10 мест из которых предоставить русским и другим народам, живущим среди казахов”. В состав правительства Туркестанской (“Кокандской”) автономии вошли 54 человека, треть из них были представителями европейских народов, проживавших в крае.
Программные документы, политическая практика не подтверждают тезисы, стереотипы о традиционализме, этноцентризме, антизападничестве алашского движения.
О каком-либо радикальном национализме не приходится говорить не только в сфере политики, но и в обыденной жизни. Как известно, женой Алихана Букейханова была Елена Севастьянова. Близкий по взглядам к алашской элите государственный деятель, экономист, писатель Смагул Садвокасов (1900-1933) был женат на дочери А.Букейханова – Елизавете. Елизавета Садвокасова окончила МГУ, впоследствии доктор наук, профессор [Казахская Советская энциклопедия, т.9, С.611]. Алашский политик, глава правительства Туркестанской автономии, один из лидеров антибольшевистской политической эмиграции в Европе Мустафа Чокай был женат на Марии Гориной (сохранились воспоминания Мустафы Чокая, записанные и изданные Марией Гориной-Чокай). Можно привести и примеры Беркена Атчибаева – одного из руководителей Западного отделения правительства Алаш-Орды, Жумахана Кудерина, репрессированного в 1930 году как члена “группы Тынышпаева” и других.
Большая часть первого поколения казахской интеллектуальной элиты или “образованного класса” участвовала в движении “Алаш”. Идейные, политические основания этой элиты и пришедшей ей на смену в 1920-1930-е годы советской интеллигенции Казахстана кардинально отличались. В первую волну репрессий, в 1928-1929 и 1930-1931 гг., были арестованы, высланы в лагеря, две многочисленные группы видных представителей элиты – так называемая “группа Байтурсынова” и “группа Тынышпаева”. Позднее почти все расстреляны.
Парадоксально, когда между алашской интеллектуальной элитой и первым поколением советской интеллигенции ставится знак равенства. Как одинаково пострадавшими жертвами тоталитарного режима.
При этом игнорируется не только принципиальное идейно-политическое, мировоззренческое различие двух когорт, но и вооруженная борьба в период революции и гражданской войны, активное, если не сказать азартное участие части молодой советской интеллигенции в развертывании политических кампаний против алашской элиты. Во 2-й половине 1920-х и в 1930-е гг. казахстанскую прессу захлестнул поток разоблачительных статей о борьбе с “байтурсуновщиной”, “садвокасовщиной”, “чаяновщиной” и т.д., написанных первым поколением советской интеллигенции. Значительная часть из них признана “корифеями” литературы, науки. Их именами названы проспекты, улицы, вузы. Следует отметить, что политические кампании в газетах всегда предшествовали репрессиям – аресту, ссылке, расстрелу.
Едва ли не единственная публикация по данной теме – книга Ларисы Кудериной “Геноцид в Казахстане” (М., 1994), дочери репрессированного в 1930 году ученого Жумахана Кудерина (дело о т.н. “группе Тынышпаева”).
Образованная Ароном Атабеком в 1990 году Партия национальной независимости Казахстана “Алаш” с обретением, укреплением независимости Республики Казахстан в 1-й пол. 1990-х гг. сошла с политической сцены. Созданная в 1999 году Национальная партия Казахстана “Алаш”, не вполне обоснованно использовавшая брэнд партии начала XX века в совершенно иных условиях, в парламентских выборах октября 1999 года потерпела крах, набрав всего 2,76% по партийному списку, прекратила свое существование в связи с принятием нового закона “О политических партиях” (15 июля 2002 г.). Новый закон, в отличие от прежнего (1996), не допускает создание партий на этнической основе, использование в наименовании партии указаний на этнические признаки. Симптоматично, в контексте причинно-следственных связей, что незадолго до принятия закона, в апреле 2002 года Минюстом РК была зарегистрирована Русская партия Казахстана, просуществовавшая 3 месяца. Удивительно прожектерство лидеров казахских и русских этноориентированных движений, возникших в преддверии президентских выборов 2005 г., официально преобразовать движения в партии. Что четко ограничивается законом 2002 г.
Характерные для казахских национальных партий и движений 1990-2005 гг. приверженность традиционализму, экстраполировались на движение “Алаш” начала XX века. Типичный признак нового мифотворчества, пример того, когда настоящее, конструирует прошлое.
Миф четвертый: Интеллигенция – реальная альтернатива власти. В 1989-1991 гг. во многих регионах СССР на смену партийной номенклатуре КПСС пришла научная интеллигенция. В Грузии президентом был избран филолог З.Гамсахурдиа, в Армении, Азербайджане, Абхазии – востоковеды Л.Тер-Петросян, А.Эльчибей, В.Ардзинба, в Литве – профессор В.Ландсбергис, в Кыргызстане – президент Академии наук, академик А.Акаев. Парламент и правительство России тогда возглавили доктора экономических наук Р.Хасбулатов и Е.Гайдар. Мэрами Москвы и Санкт-Петербурга были избраны доктора наук экономист Г.Попов, юрист А.Собчак.
Да и в Казахстане в тот период спикерами парламента (Верховного Совета XII и XIII созыва) были избраны доктор экономических наук С.Абдильдин, писатель А.Кекильбаев, вице-президентом РК – доктор экономических наук Е.Асанбаев. Конституционный суд возглавил академик М.Баймаханов, министерство юстиции – известный ученый, юрист Н.Шайкенов. Творческая интеллигенция преобладала в депутатском корпусе I и II съездов народных депутатов СССР и первых парламентах новых независимых государств. Большинство из них канули в Лету.
Практически во всех постсоветских странах “хождение во власть” интеллигенции, с точки зрения эффективности управления, удержания ею власти, завершилось фиаско. Дольше всех продержался у власти “президент-академик” Аскар Акаев. Тем сокрушительней был крах.
В Казахстане некая альтернативность интеллигенции власти, казалось бы, обозначилась осенью 1994 года, когда на XI пленуме партии Народный конгресс Казахстана, лидер НКК Олжас Сулейменов, в преддверии намечавшихся президентских выборов, заявил о новом курсе “конструктивной оппозиции Президенту РК Н.Назарбаеву и возглавляемой им администрации” (характерно, что более чем часовой доклад О.Сулейменова транслировался по республиканскому радио).
С отбытием О.Сулейменова в качестве посла РК в Италию, потенциал “интеллигентской” партии стремительно пошел на убыль. На парламентских выборах 1999 года НКК набрала лишь 2,83% по партийному списку. Возглавляемая А.Джагановой Партия возрождения Казахстана, позиционировавшая себя, как партия работников культуры, образования, науки набрала всего лишь 1,97% по партийным спискам. На парламентских выборах 19 сентября 2004 года, возглавляемая вновь А.Джагановой новая-старая “интеллигентская” партия “Руханият”, набирает еще меньше, чем ПВК в 1999 г., всего лишь 0,44% (20 826 голосов избирателей). И это при том, что только учителя, врачи, как целевая группа этой “виртуальной партии” составляют свыше 830 тысяч избирателей.
Наметившиеся к середине 1990-х и четко обозначившиеся ныне, фиаско интеллигенции, крах иллюзий о новом, более высоком статусе, включении в средний класс, доступе к властным, материальным ресурсам, обусловлены изменениями типа социальной стратификации в постсоветский период.
Миф пятый: Интеллигенция все еще является значимым элементом социальной структуры казахстанского общества. Творческая интеллигенция сокращается весьма явственно. Даже по формальным признакам. Например, статистически: с 1990 г. численность научных работников РК снизилась в 6,4 раза со 109 – до 17 тыс. человек.
Как локальное явление во времени и пространстве, интеллигенция сошла с политической арены и сходит с исторической сцены. Окончательное исчезновение, по-видимому, связано с естественной сменой поколения, часть которого, по инерции позиционирует себя как интеллигенцию. Сам термин все более выходит из обихода.
Примечателен ответ Геннадия Хазанова на вопрос:
“ – Вы отрицательно относитесь к понятию интеллигент?
– С некоторых пор, да. Ни для кого не секрет, что это российское изобретение. Что такое интеллектуал, как говорят в мире, я понимаю. А что такое интеллигент – нет”.
В 1980-е годы была популярна книга о снежном человеке известного историка Б.Поршнева “Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах”. Сегодня интеллигенция, как социальная группа с такими политическими и этическими характеристиками, как имманентная, “вечная” оппозиционность власти, народопоклонство, “служение народу”, постоянная рефлексия – своего рода “снежный человек”. Социальный реликт эпохи России 2-й половины XIX – начала XX вв. и советского периода.