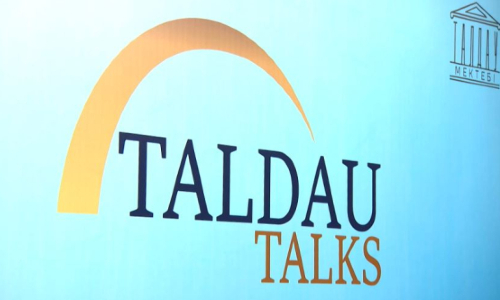9 февраля состоялась пресс-конференция под названием “Нужна ли Казахстану конституционная реформа?”. Ее участниками явились директор Казахстанского института государства и права Г.Сапаргалиев, ректор высшей школы права “Адилет” А.Матюхин, ректор университета им. Кунаева О.Копабаев, декан юридического факультета КазНУ Д.Байдельдинов, зав. кафедрой КазНУ З.Кенжалиев и К.Халиков. В ходе созванного по их инициативе мероприятия они произносили речи в защиту действующей Конституции РК. Такое начинание не осталось незамеченным. 18 февраля эту группу юристов в ходе своего выступления с очередным ежегодным посланием к народу Казахстана поблагодарил сам президент РК Н.Назарбаев.
И вот что примечательно в связи с этим. Текст нынешней Конституции, когда он существовал еще только в проекте, был вынесен на всенародный референдум и обсуждался страной почти полгода. Было это весной и летом 1995 года. Тогда же осенью проходили выборы в парламент уже по новой Конституции. А впервые вопрос о существовании некоторых несоответствий в казахском и русском текстах Основного Закона на официальном уровне был поднят в 2002 году. Инициаторами явились депутаты мажилиса. В феврале 2003-го мажилисмен Серик Абрахманов поставил эту проблему перед Конституционным советом РК. Он обратил внимание этого верховного арбитражного органа по всем вопросам, связанным с Конституцией, на то, что тексты Основного Закона на государственном и официальном языках не просто не соовпадают по смыслу, но местами прямо противоречат друг другу. И в доказательство такого утверждения привел пример: в статье 61 пункт семь, касающийся недоверия правительству, на государственном языке предполагает голосование по этому вопросу “не позднее” 48 часов после такого решения, а на русском языке та же норма звучит, как “не ранее”.
Откуда в действующей Конституции внутренняя коллизия?!
Вопрос в постановке С.Абдрахманова предполагал сложный выбор из двух альтернатив одной. Другими словами, речь у него шла о двух противоречащих друг другу требованиях, порождающих внутреннюю коллизию в Конституции. Во всяком случае, такое сложилось впечатление. Конституционный совет никакой оценки по указанному противоречию не дал.
Более того, он никак не отреагировал и на раскрытые тем же С.Абдрахмановым факты самодеятельного внесения в Основной Закон правок тиражирующим его издательством. А ведь еще 6 сентября 1995 года президент Н.Назарбаев пунктом два своего Указа “О Конституции Республики Казахстан” установил, “что оригинал текста Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, хранится у Президента Республики Казахстан”. Кто же после этого мог взять на себя смелость и ответственность распорядиться внести в него правки в обход пункта один статьи 91 Основного Закона, где сказано: “Изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан могут быть внесены республиканским референдумом, проводимым по решению Президента Республики, принятым им по собственной инициативе, предложению Парламента и Правительства. Проект изменений и дополнений в Конституцию не выносится на республиканский референдум, если президент решит передать его на рассмотрение Парламента…”?! Ведь это — присвоение властных полномочий президента, парламента и всего народа как единственного источника власти. В той же Конституции ясно и недвусмысленно заявлено: “Присвоение власти преследуется законом”. Так почему же этот самый закон молчит в случае, публично разоблаченном мажилисменом С.Абдрахмановым перед Конституционным советом?! Не потому ли, что решение о внесении вышеназванных правок в Основной Закон и вообще о создании новой редакции его текста было принято негласно и келейно где-то в кабинетах обладателей высоких государственных должностей?! Но тогда возникает вопрос о привлечении к ответственности этих людей. Ибо кем бы эти лица ни были, они в таком случае нарушили Основной Закон. Конституция является законом прямого действия. Нарушение ее положений должны наказываться столь же прямым действием соответствующего кодекса.
На той пресс-конференции директор Казахстанского института государства и права Гайрат Сапаргалиев, усмотрев в притязаниях оппонентов действующего Основного Закона государства попытку раздробить общество на “своих” и “чужих”, весомо напомнил: конституционные положения — это мнение народа, принятое на референдуме. Правильно. Но почему бы признанному в стране специалисту по конституционному праву с таким же напоминанием не обратиться было еще раньше, гораздо раньше к тем, кто инициировал или допустил (несмотря на то, что призван по статусу осуществлять официальный надзор за нерушимостью законов) противозаконное внесение правок в эту самую Конституцию?! Ведь в том, двухгодичной давности случае это выглядело бы куда более уместным, чем теперь. Разве не так?
В своем открытом письме на имя президента РК Нурсултана Назарбаева и депутатов парламента вышеназванные правоведы утверждают, что “в действующей Конституции содержится все или, по меньшей мере, много того, к чему мы стремимся, а на деле — не всегда выполняем и соблюдаем”. Из утверждений кое-кого из них складывается впечатление, что у парламента полномочия по действующему Основному Закону достаточно широкие, да только, мол, сами парламентарии до сих пор не в полной мере ими пользовались. Допустим, что такое представление полностью соответствует действительности. Хорошо. Но тогда как же прикажете оценивать то, что случилось на заседании Конституционного совета РК с депутатом мажилиса С.Абдрахмановым? Парламентарий определил две серьезнейшие проблемы по Конституции. И этот его закономерный шаг остался без надлежащих последствий. Конституционный совет не дал своего решения ни по “вотумной” коллизии в казахском и русском текстах Конституции, ни по внесенным туда “антиконституционным” правкам. Так что же еще мог сделать С.Абдрахманов как парламентарий, если по поднимаемым конституционным проблемам не добился ничего реального даже у Конституционного совета, в чьей юрисдикции находятся все самые важные вопросы, возникающие в связи с Основным Законом?!
Вопросов много — ответов на них нет
Уважаемый доктор юридических наук Г.Сапаргалиев на той самой пресс-конференции упрекнул оппонентов действующего Основного Закона в том, что они делают серьезные заявления, даже детально не изучив нашу Конституцию. Мы надеемся, что уж он-то в качестве юриста, специализирующегося как раз в конституционных вопросах, исследовал ее, что называется, вдоль и поперек. Но в толстенном томе его комментариев к Основному Закону РК, где каждый пункт каждой конституционной статьи оценивается с точки зрения специалиста подробнейшим образом, нет ничего о коллизии казахского и русского вариантов пункта семь статьи 61. Получается, признанный авторитет по конституционному праву заложенного там диаметрального противоречия не заметил?.. В такое поверить очень трудно. Он-то уж должен был обнаружить эти разночтения гораздо раньше С.Абдрахманова, а потом тут же поднять вопрос. А раз формально не обнаружил и не поднял, зачем сейчас, образно говоря, размахивать кулаками, защищая Конституцию?! Или нашим юристам следует ее защищать лишь от оппонентов действующей власти? Как вообще подобную линию поведения понимать? Вопросов много, а ответов на них нет.
А так, теперь получается вот что. Многие, наверное, до сих пор помнят те обстоятельства, которыми сопровождался процесс узаконения частной собственности на землю. Он длился долго и проходил тяжело. Исполнительная власть вознамерилась во что бы то ни стало “пробить” такую частную собственность в рамках законопроекта Земельного кодекса, законодательная под давлением общественного мнения, отрицательно относившегося к такому нововведению, – сопротивлялась до последнего. В конце концов правительству пришлось пойти на вынесение вопроса о вотуме доверия к себе. Пробить Земельный кодекс в правительственном варианте пробили, но при этом произошло нарушение процедурного требования Конституции: вопрос о вотуме доверия был поставлен 16 мая 2003 года, а голосование состоялось 19-го.
Некоторые утверждают, что соблюсти в точности временные требования как казахского, так и русского вариантов Основного Закона в данном случае было просто невозможно, так как одно из них полностью исключает другое. Но это, мягко говоря, лукавство. Сама Конституция, если строго следовать ее букве, противоречиям никакого места не оставляет. Впрочем, вот посудите сами. Первый пункт статьи 7 гласит: “В Республике Казахстан государственным является казахский язык”. Второй – “В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским употребляется русский язык”. Третий – “Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народов Казахстана”. Больше никаких требований по языкам нет ни в рассматриваемой статье, ни в Конституции в целом. А там, где положено, достаточно ясно сказано, каким вариантом законов следует руководствоваться при отправлении государственных дел. Во всяком случае, “языковая” статья не дает абсолютно никакого основания для отодвигания на второй план Конституции на казахском языке. Если это происходит (как в случае с Земельным кодексом), юристам в первую голову надо бы поднимать шум с тем, чтобы добиться восстановления статус-кво.
Уверенности, что это единственное нарушение, нет
Но если даже языковая статья Конституции РК не убеждает окончательно кое-кого, можно уже сослаться на вышеназванный указ президента, где сказано конкретно об одном единственном “оригинале текста Конституции”, а не о “двух оригиналах” или “двух текстах”. Тут уже все предельно ясно. Так в чем же корень проблемы? Вот в чем. Сама Конституция требует, чтобы руководствовались ее казахским текстом как единственным законным оригиналом, тогда как на деле сложилась практика руководствования ее русским текстом. Последняя оправдывается теми, кто ее придерживается, тем, что Основной Закон на этапе проекта составлялся на русском языке. Но такой аргумент на самом деле не выдерживает никакой критики. Фраза “Закон суров, но это закон”, которой так любят щеголять юристы, справедлива в данном случае на все 100 процентов. Если в Конституции нет никакой неясности с государственным языком и количеством ее оригиналов, не должно быть никакого вопроса и о том, каким ее текстом следует официально руководствоваться. Потому что домысливание за закон в области правоприменения совершенно недопустимо. Так что все те, кто в своих официальных действиях исходит из допущения, что-де на самом деле первичен не казахский, а русский текст Основного Закона, на самом деле совершают антиконституционное деяние. Про себя вы можете думать об этой Конституции что угодно, а вот при официальном применении ее будьте добры следовать неукоснительно заложенным там требованиям. Другого выхода тут просто нет. Если Конституция в ее нынешнем виде вас не устраивает, добивайтесь ее изменения или пересмотра. Но закрывать глаза на то, как ее грубейшим образом нарушают официальные власти, и одновременно обрушиваться с критикой на их оппонентов, которые добиваются конституционной реформы, — это непостижимая позиция.
Сейчас для того, чтобы вернуть процесс законотворчества на конституционное поле, придется аннулировать узаконение Земельного кодекса. Заодно – и введение частной собственности на землю. Потому что, повторимся, процедура принятия этого закона сопровождалась грубейшим нарушением конкретного требования Конституции РК. С точки зрения здравого смысла тут, быть может, нет ничего страшного. Но если один раз заменить условие Основного Закона соображениями здравого смысла, в дальнейшем по прецеденту это может повторяться бесконечно. И у нас сейчас, если сказать честно, нет никакой уверенности, что казус с двухгодичной давности “вотумом доверия” является единственным случаем нарушения действующей Конституции.
“Central Asia monitor” 25.02.05 г.