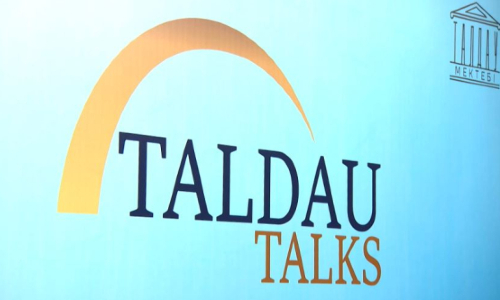Кто тот смертный, в пользу которого задумана вся эта механика? — задавала я себе самой салтыковско-щедринский вопрос.
Было это на просмотре балета “Снежная королева в Астане” в постановке астанинского театра оперы и балета им. К.Байсеитовой. Что логично, пожалуй. Кому ещё ставить такой балет, не Майкопскому же кукольному …
Придумали и осуществили действо взрослые, седовласые дяденьки, переделав до этого, по-видимому, все прочие важные дела, порешав все насущные вопросы и достойнейшим образом ответив на все дерзкие вызовы неугомонной современности.
Музыку написал Ренат Салаватов, Заслуженный артист России, Кавалер Ордена «Курмет» и прочая, и прочая.
Постановку осуществил Заслуженный художник России, лауреат Госпремии РК Вячеслав Окунев.
Либретто и хореографию придумали кардиолог и бизнесмен Альжан Шомаев и просто балетмейстер Вячеслав Гончаров. Про них тоже не скажешь: “Профессия — игра на балалайке по трактирам”. Творцы.
И личные близкие друзья г-на Салаватова, о чём он сам охотно и простодушно рассказывает в многочисленных интервью.
В них же маэстро рассказывает о том, как однажды покойный Тлес Кажгалиев произнёс роковую для всех нас фразу “Ренат, в тебе погиб великий композитор”. Друзья, известное дело, народ легкомысленный. Брякнут что-нибудь в порыве чувств, а ты потом не спи ночи напролёт, уставившись в потолок немигающими очами – я великий, великий…
И вот однажды группе этих, без сомнения, достойных господ пришла в их головы светлая мысль — а не придумать ли нам что-нибудь эдакое, детишкам на радостишко, себе на гонораришко. И придумали “Снежную королеву в Астане”.
Либретто достойно того, чтобы некоторые его отрывки привести полностью.
В скобках примечания автора.

“Квартира, вечер. На кровати сидит мальчик. Он болен. В комнату вбегает девочка и пытается развеселить мальчика. Входит дед (в казахском чапане и шапке) и сообщает, что придёт Доктор. Тут в комнату вкатываются Кошка с Собакой и начинают драться из-за связки сосисок (сосиски изображены с пугающим натурализмом)…
Появляется Доктор (грудастая тётка в халате). Она осматривает мальчика, выписывает рецепт и уходит. В комнате меркнет свет. “Влетают” Снежинки. В проёме окна появляется как две капли воды похожая на Доктора Снежная Королева (обеих играет одна актриса, привет от партии Одетты-Одиллии). Королева накрывает мальчика своей мантией и исчезает в оконном проёме…”
Позвольте… Это же Андерсен написал! — воскликнет озадаченно любой мало-мальски образованный зритель.
Успокойся, зритель. Сядь на место согласно купленному билету. Сядь, тебе говорят.
Какой ещё андерсен-шмандерсен? Это написал господин Альжан Шомаев, бизнесмен и кардиолог. А ещё коллекционер, которого господин Салаватов называет “наш Стасов”. Потому что г-ин Шомаев, видите ли, сорок лет ходит на спектакли абаевского театра и, наверняка, даже знает слово “постмодернизм”.
Наш Стасов “в сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверх пропорции” и потому рейдерски переработал сказку хоть и великого, но политически-неподкованного датчанина, бестрепетной рукой перековав северных оленей в сайгаков, шайку разбойников в бригаду чабанов, а придворных Воронов в стаю Уток и важного Гуся. Это можно расценивать как намёк Министерству сельского хозяйства, что пора бы уже развивать подзагнувшуюся отрасль.
А двух старух, финку и лапландку, г-н Шомаев преображает в трёх казахских шаманов, танцующих каражорга. Рассуждая при этом вполне по-казахски — екi жаман қатыннан не пайда дейсiн?
Во втором акте героическая астанинская Герда продолжает свой путь в поисках Кая неприкаянного.
“В залитом ярким солнечным светом саду томно танцуют спелые Арбузы, Дыня, Яблоки, Груши, Сливы, Виноград, Абрикосы.
Появляется девочка с утками. Все рады гостям и всех приглашают за богатый дастархан. Девочка благодарит хозяев и объясняет им, что ищет своего младшего брата. Главный Арбуз уговаривает девочку сначала подкрепиться. Девочку усаживают за стол и развлекают танцами…”
В финале, преодолев массу препятствий, юная астанчанка помогает брату “освободиться из снежного плена”.
“Неожиданно появляется Снежная Королева. Разгневанная волшебница набрасывается на детей, пытаясь их заморозить. В схватке Девочка бросает в Снежную Королеву свои варежки. Королева и всё её царство тает на глазах”.
На заднике сцены восходит солнце, освещая лучами силуэт Байтерека.
Зрелище это адресовано детской и подростковой аудитории.
Почему у балета такое странное название? А потому что так как-то сложилось, что люди искусства нынче слова произнести не могут, не приплетая название столицы. Господин Гончаров так вообще зарапортовался: “Мы хотим, чтобы патриотизм воспитывался с детства, поэтому события сказки происходят в Астане”. В огороде бузина, а в Астане Гончаров. Какая вообще связь между патриотизмом и Астаной?
В общем, это поветрие такое, эпидемия. Не чума, конечно, но… род чумки. Как у собак и кошек.
Потому что “Астана” — звучит… Произнесёшь, и вроде как причастен к высшим сферам, с Пушкиным на дружеской ноге и всё такое…
“Казимир Алмазов – это имя, афиша, публика, касса!”
Впрочем, иногда господа патриоты изменяют своей обожаемой столице и дабы потрафить незатейливой провинциальной публике, переименовывают спектакль ради сиюминутных финансовых дивидентов.
Например, в Шымкенте постановку назвали “ Снежная Королева в Шымкенте”. Звучит как “лед и пламень”… А чего, пусть радуются прожаренные солнцем южане своей причастности к вечной мерзлоте нетленной классики.
Не обязательно быть демоном хорошего вкуса и большим знатоком балетного искусства, чтобы сказать – “Снежная королева в Астане” — смесь наглого непрофессионализма и наплевательского отношения к чувствам зрителей.
И как-то даже неудобно напоминать авторам, что настоящий балет – это прежде всего коктейль из отборной музыки, безупречного дизайна и высокой гимнастики.
Весьма прискорбно, что господа Салаватов, Гончаров, Шомаев и Окунев не стали это показывать только своим собственным “чадам и домочадцам и скотам их” в любительских домашних спектаклях в своих загородных резиденциях. Была ведь такая забытая теперь разночинно-барская, очаровательная забава – любительские спектакли. Когда и бабушку можно было обрядить в костюм Коломбины, густо насурьмив ей старческие брови и свояченицу нарядить Психеей, и шурина назначить вторым привратником. А супруга чай соседям-зрителям подливала да приговаривала бы “Вам правда нравится? Ах, как это мило…” Самовар кипит, шашлык жарится… Душевно, весело, познавательно, семейно…
А главное – совершенно безопасно для массового зрителя и государственной казны. И пусть “пиеса” глупая, чтобы не сказать резче, написанная одной левой косоруким автором, беззастенчивым профаном, место которому в колхозной самодеятельности. В семейном кругу им бы это простилось. Не скажет же внук родному дедушке-кормильцу – уходи уже из профессии, хватит, нахватался госпремий, уступи наконец дорогу молодым, они после вуза мыкаются без работы, не могут реализовать свои талантливые проекты…
И не многовато ли развелось у нас “приглашённых авторов” на единицу площади, приезжающих к нам на предмет — подкормиться на халтурке ?
Это уже стало заметной приметой — как приедет к нам из зарубежья с “культурным десантом” какой-нибудь пупкин-егоркончаловский, да начнёт тут на наши денежки свои осуществлять свои проектики, так жди беды.
“Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?”
Пупкин гонорар получит, да укатит к себе – а на наших сценах и экранах остаётся вздорный, оскорбительный балаган. В среде варягов-халтурщиков от “искусства” ходит даже специальный ироничный термин – “казахам пойдёт…”.
Свою творческую бледную немочь, постановочное бессилие и эпическое мычание пронырливые деятели искусств научились протаскивать на сцены главных театров страны, цинично прикрываясь пустопорожними словами про развитие и сохранение культуры, искусство, патриотизм.
И некому сказать им:
— Это вам не симфонический оркестр, здесь в толпе не спрячешься, надо играть чисто!
***
© ZONAkz, 2013г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.