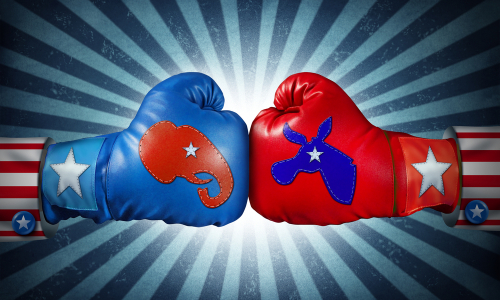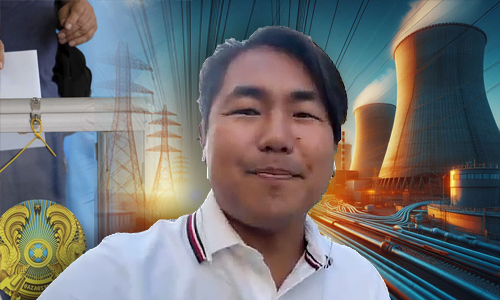1
Скажем так: он появился на моей дороге, как пыль, пугливо свалявшаяся в мышиного цвета клубочек. Тщедушное, малорослое существо с глазками цвета окислившейся латуни, упакованное в заношенное тряпье, плотно пропитанное телесной немытостью немолодого, неженатого, нездорового и неопрятного мужчинки, приближающегося к рубежу 60 лет.
Имя ему было – Акрилов!
Боже, как ласкают мой слух звуки этого имени! Я бы еще усилил в нем сонорную ласковость растянутого «л» и добавил в окончание респектабельно-заграничное, но несколько фатальное «off»…
Но и в этом случае он остался бы тем, кем родился – Паниковским.
2
Происходил этот чудак не то из Мелитополя, не то из Херсона, не знаю, откуда берутся типажи подобного рода. Его бесчисленные монологи, исполненные вздора противоречивых свидетельств и аранжированные бабьими причитаниями, сводились обычно к описанию трёх стигматов, коими были: безрадостное прошлое, брыкливое здоровье и беспросветное, как берлинское небо, будущее. Он числился безработным и охотно не брезговал разнообразными вспомоществованиями. Государственная казна оплачивала нанятую им квартирёшку, все его дорожные и госпитальные расходы, ещё и приплачивала пособием. В конторе русского издательства, где я обретался, он состоял прежде в чине вольноопределяющегося ландскнехта, уговорив работодателя «дать ему шанс». Тот вымученно согласился и приковал подвижного, как таракан, Акрилова к столу с компьютером, назначив его кем-то вроде смотрящего на сайте компании.
Худшей участи для свободного художника удумать было нельзя. Стеная и проклиная скорбную долю свою, Акрилов, полагавший себя изрядным папарацци и в доказательство таскавший с собою страшно покоцанный «Никон», избрал вызывающе вольный график, частенько растворяясь в огнях большого города для таинственных маневров. Работодатель, пробегая деловитой рысью по тропам своего заведения, сию картину наблюдательно заприметил и вполне резонно озадачился: а на кой ляд сдался мне этот ловец остановленных мгновений, вопросил он и безжалостно художника сократил.
Так закончилась для Акрилова первая попытка творчества и самовыражения.
3
К тому времени, когда мы с ним встретились, начиналась вторая, и продлилась она чуть более двух недель.
Хозяин прикомандировал отставленного креативиста к рабочей группе специального ТВ-проекта, возглавлять который мне было высочайше доверено.
— Плюнуть, растереть и забыть! — троекратным шепотом рубанул Акрилов, когда мы вышли из кабинета, где только что состоялось рукоположение. – Знаю я эту фирмочку, ох, знаю! Здесь приличные люди не задёрживаются. Спросишь – почему? Ха! Эти балаболы, они же никому не платят! Ты сам скоро все поймешь, дорогой Вова. Вот у меня, к примеру…
Последовало очередное описание кровосочащихся стигматов.
Самое время было приниматься за работу. Мы явились на продуваемый плевритными сквозняками склад, и я учинил ревизию. Н-ну! Это уже было кое-что. Новехонькие камеры «Sony» высшей пробы, как дивные норки, изготовившиеся к прыжку, лежали в своих уютных замшевых норках. Сменная оптика доверчиво таращилась, с застенчивой гордостью предъявляя в ассортименте даже широкоугольный объектив типа «рыбий глаз». Наличествовали микрофоны, зверинноухие «зенхайзеры», способные уловить взволнованный пульс спутницы, уединившейся в дамской комнате шумной ресторации. Царственно возлежал роскошный кофр с деликатно и разумно упакованными осветительными латернами, волшебными фильтрами и стройными штативами. Наличествовали массивные камерные «ноги» с телескопическими суставами, радиоуправляемые «петлички», клеопатровыми змейками крадущиеся по груди пытаемой жертвы…
Ч-черт! Я почувствовал себя командиром! У меня было штатное вооружение, комната для его хранения с массивным несгораемым шкафом, который переживет атомную войну, у меня были пустующие складские помещения, годившиеся для павильонных съемок. У меня не было войска. И я изрек, обратившись к сумрачному Акрилову: «Михал Аркадич! От фотографа до камермена дорога невелика. Возьмите «Соньку», прощупайте ее эрогенные точки, заставьте ее стонать в ваших умелых руках мастера светописи!».

-Ну, а чё, — ржаво скрипнул он после некоторого раздумья, — а чего бы и не попробовать. Не боги горшки обжигают. Глаз-то у меня есть. И опыт – дай бог каждому.
4
Прошлое словоохотливого Акрилова изобиловало миражами, претендующими на вымученную изысканность мемуарного глянца. Мелькал там крутой бок крымского Аю-Дага, где он подвизался вожатым в легендарном пионерлагере (во что я сразу же поверил, словно увидев его, стремительно помолодевшего, на групповом снимке в окружении половозрелых девиц) и создал там школу юного журналиста, куда принес свои первые трепетные опыты сам Витя Пелевин, будущий властитель дум поколения Пи. Или это был Захар Прилепин? Возможно, даже Дмитрий Быков? Бис його знае…
И вот Акрилов стал терзать инструкцию пользователя камеры, визгливо матерясь, проклиная неудобоваримость изложения, с чем было трудно не согласиться.
Мы заново предстали перед Шефом.
— Вот, стало быть, — промямлил я, втайне мучась ледяной изжогой некоторого сомнения. – Рекомендую известного вам Акрилова в новом качестве телеоператора. Любезно согласился, так сказать…
— Ну, а чё, — бойко встрял рекомендуемый. – Как грицца, если человек талантлив, то он везде пролезет. В смысле профессионализьма, — солидно добавил он. – И эффективного менжмента.
Шеф внезапно развеселился.
— Акрилыч, а потом скажешь после съемки: блин, пленка засветилась!
— Там же ж нет пленки, — терпеливо, как ребенку, зажужжал Акрилов. – Это ж диджитал…
Днем позже явилась на смотрины камерменша и монтажистка – баскетбольного роста, застенчивая и сдержанная молодуха с льдистыми глазами. В солдатских ботинках. Имя ей было – Евдокия Шульце. Такое бывает: девушка из Владивостока, студентка журфака, работавшая на первом в городе «независимом» кабельном канале, встретила вояжирующего отпрыска голубых кровей, влюбилась, и, благополучно выйдя замуж, переехала в Берлин, где родила замечательных малышей с разницей в два года.
Евдокия пришла осмотреться, но в тот же день выпала съемка, и она, не ломаясь, согласилась. Спешно мобилизованный и наскоро обученный Акрилов, слегка одуревший от такого штурма унд дранга, вооружился «Сонькой» и ринулся на площадку – вторым нумером. Что-то мы там наснимали. В общем, для скоропостижного дебюта все сошло на диво благополучно. Если не считать, что Акрилов, сосредоточенно пялясь в видоискатель и увлеченный процессом созидания новой реальности, незаметно для себя вскарабкался на сцену, где царил недавно вошедший в большую моду Вася Обломов, и стал целиться объективом в упор поющему. Узрев бесцеремонного съемщика, Вася, не прекращая рефрен про Магадан, перешел на литературный язык и с дипломатической корректностью выдохнул скороговоркой: «Пошел нах, мудила. Я не шучу!».
Пошло дело!
Тестировали технику, что-то пробовали монтировать, озвучивать, накладывать титры, боролись с компьютером, норовившим зависнуть – все как положено. Ходили вместе обедать, балагурили…
Заплесневевший в давнем безбрачии и хронической бездетности Акрилов, заполучив новые уши, изблевал в них всю горечь своей никудышной жизни и, с ходу привязавшись к немногословной, но отзывчивой Евдокии, стал пользовать ее в качестве переводчицы. Прожив в Германии лет семь, отсидев все положенные курсы, он не продвинулся в немецком дальше «данкешён», причем сообщал об этом с заметной, но малопонятной гордостью. Он принадлежал к довольно распространенной породе эмигрантов, которые полагают, что «немцы и так нам должны по жизни», поэтому учить их поганый язык – западло.
Он стал бесцеремонно запрягать безропотную, как мать Тереза, Евдокию и устроил большой забег по врачам, где с её помощью декламировал гомеровские фрагменты своей истории болезни, обширной, как Тора. Болело у него все. Но прежде, как водится, шалило сердце. Я подозревал, что возбудимый, как подростковый фаллос, Акрилов страдал банальным неврозом, поскольку, рисуя на воробьиной грудке контурные карты своих недомоганий, упрямо прикладывал, лапку к левой ее стороне, где никакого сердца нет и быть не может. Мой диагноз вскоре подтвердили берлинские лепилы, погоняв мнимого больного на велотренажере. Не обнаружив опасных брешей в гористом пейзаже кардиограмм и оставив без внимания цыплячью скорострельность его спотыкливого пульса, они прописали бедолаге успокоительные пилюли, которых у него дома и без них скопился добрый пуд.
5
В тот роковой день, ничто, как водится, не предвещало беды. Акрилов был траурно задумчив и настораживающе немногословен. Его пасмурная рожица пожилой мартышки, прослужившей всю жизнь в цирке и милостиво отправленной на содержание к бездетной вдове забытого клоуна, убедительно свидетельствовала, что вообще жизнь — не цукер. Порой он бросался к своему компу и лихорадочно клацал клавиатурой, как собака, выкусывающая блох, затем принимался сумрачно бродить по ньюсруму, выписывая замысловатые спирали вокруг монтажного стола, где мы с Евдокией заканчивали склейки и уже накладывали титры. Остановившись у меня за спиной и уставившись на монитор, он вдруг решительно потребовал: «Убери кавычки!». Тон высказывания был командирский.
— Какие кавычки, Аркадич? – вполне миролюбиво поинтересовался я. — Эти, что ли? Так ведь название заведения…
— Убери! Так уже не пишут на Западе! Вчерашний день! Мы на Западе, прошу учесть это!
Пустяшная физия Акрилова на глазах превращалась в ужасающе вышинский лик государственного обвинителя, страдающего апоплексией. Его пальцы суетливо терзали замасленный ворот свитерка, будто готовясь разорвать его на груди, в уголку пересохшего рта пузырилась и закипала бешеная слюнка. От него несло душной дурниной застарелого кариеса.
— Михаил Аркадьевич, пусть на Западе, но пишем-то мы по-русски, а в соответствие с нормами пунктуации…
Тут и началось.
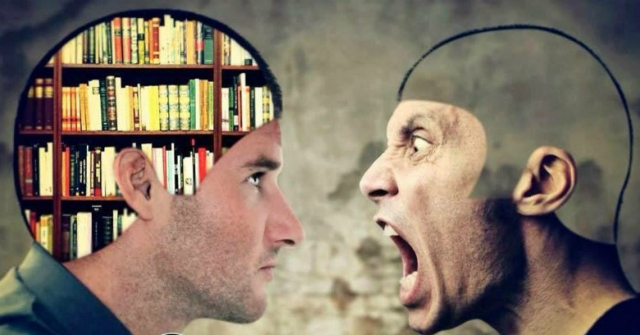
— Плять! – неожиданным басом рявкнул Акрилов и хроменькой рысцой, переместился по часовой стрелке. – Как я ненавижу всех этих мудаков! Чё ты быкуешь, а? Тебе сказано: убери кавычки, так возьми ж и убери ж кавычки!
— Миша, – ошарашенно отозвалась на происходящее Евдокия, — что ли, с ума ты сошел?
Скандал стартовал, как истребитель с палубы авианосца, почти без разбега и круто вверх. Двигатели его ревели на взлетном режиме. Я уже ощущал, как в солнечном сплетении заворочалась крупная ледяная жаба, а правый кулак стал наливаться пульсирующей кровью неминуемой драки.
— Ты кто такой?! – зашелся в крике мой обличитель, опять переходя на козлетон, и Паниковский вылупился из него во весь рост. – Понаехало, плять, умников, не знают, где кавычки ставить!
Он снова пустился нарезать круги, сотрясая окрестности плаксивыми залпами: «Деловой, сука. Явился тут! Гения из себя корчит! А где ставить кавычки не знает! Я профессионал, мля! У меня Пелевин уроки брал…».
Я вдруг понял: он сумасшедший. Псих. У него припадок.
— Линяем, — шепнул я Евдокии. – Шиза, обострение. Заразно. У тебя дети, муж. Придешь домой, прими душ и припудрись дустом.
— Зачем вы так? – обиделась она. – Это жестоко. Мне его жалко. Идите, я все улажу.
Нормально! Он вызверился, как взбесившийся кот, а я — жестоковыйная скотина?
 «Токаев сменил участок, Назарбаев пожелал удачи: как прошёл референдум в Астане». «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента». «Перевод казахского языка на латиницу: между политикой и прагматизмом»
«Токаев сменил участок, Назарбаев пожелал удачи: как прошёл референдум в Астане». «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента». «Перевод казахского языка на латиницу: между политикой и прагматизмом»Ушел курить. Вернувшись, застал упоительную картинку: этот эпилептик не без комфорта раскинулся на моем кресле, слева от Евдокии, и уютно мурлыкая, давая ценные указания. Он монтировал! Евдокия сделала мне умоляющие глаза и слегка мотнула головой в сторону выхода. Уходя, я чувствовал, как на излете шлепаются о мою спину последние комки акриловой ярости: «Все надо делать профессионально!». И на десерт, еле различимое: «Говнюк!».
Занавес.
6
Мне еще никогда не хамили столь беспардонно и беспричинно. А я ведь ничем этого юродивого не обидел. Я был с ним учтив и не без интереса выслушивал все его вздоры. Я хлопотал за него и ручался. Откуда этот взрыв звериной ненависти? На какую мину я наступил, на какую растяжку нарвался? Было ощущение неудачного, пьяного розыгрыша, который закончился идиотски-бессмысленным мордобоем.
Погано было на душе. Погано.
Акрилов явился на работу через два дня, ближе к одиннадцати. Евдокии не было, она пошла на другие смотрины, куда-то на радио, откуда потом так и не вернулась: взяли. Не поздоровавшись, не раздевшись, он плюхнулся в свое кресло, нетерпеливо оживил компьютер и с пулеметной скоростью затарахтел клавиатурой. «Донос строчит, бродяга», — с постылой прозорливостью подумал я. И, к сожалению, – не ошибся, вскоре меня пригласили к гешефтсфюреру. Он восседал на своем троне сумрачный, лиловый и отёчный, как безнадежный почечник, тоскующий по диализу.
— Видал-миндал? — спросил он меня и потряс стопкой листов. – На восьми страницах накатал! Ты ему по роже, случайно, не заехал?
— Нет. Но соблазн был.
— Слава богу. Тут с этим строго. Слушай, а что все-таки у вас произошло?
Я скорбно вздохнул и обречённо спросил: «Объяснительную писать?».
— Да, ладно. Я его прогнал со двора.
Вернувшись, я еще застал Акрилова. Он наматывал на дряблую шею жеваный шарфик и выглядел шизофреником, решившим удавиться в минуту беспощадного просветления разума. Долго возился с молнией куртёшки, ломая ногти, вполголоса роняя матерки, словно тепловые ракеты. Затем поплелся, коротконогий и нелепый, в китайском пуховичке, с неработающим «Никоном» на боку, побрел по лестнице, ведущей к переходу в следующий отсек, остановился на площадке и кротко пискнул: «Ну, пока…».
Никто ему не ответил.
Я остался в монтажной — пустой, онемевшей, оглохшей.
И административное возмездие, покаравшее глупого скандалиста, не радовало своей очевидной справедливостью. И лежащая на поверхности версия о сумасшествии этого убого чудика уже не казалось убедительной. Кто он? Шестерка, прикинувшаяся тузом? Мелкий прыщ, возомнивший себя фурункулом? Фурункул, сдуревший на том, что он Везувий? Не было ответа. Но отчего-то я чувствовал себя солдатом, обидевшим ребенка.
7
А он уходил. И хронический насморк берлинского неба, всегда готового по-кошачьи чихнуть, засеяв все окрест зубастыми, как пираньи, вирусами, грозил ему скорым и бесславным небытием. Он уходил навсегда, безвозвратно, навечно, и больную спину его, уже стянутую намертво цементным корсетом подкрадывающейся старости, сверлили и буравили взгляды: любопытные, сочувствующие, презрительные, равнодушные, злобные – какие угодно, но каждый из них прятал на дне зрачка искорку заячьей радости уцелевшего: не я, сегодня – не я! Это были пугливые взоры людей, вывалившихся из чрева бестолковой страны, сотворившей себе сдуру бессмысленное харакири. И, оказавшись здесь, в этом мусорном баке, где в бестолковом беспорядке теснятся изуродованные куски расчлененного тела их бывшей державы, они еще отзываются на призрачные имена кратким, словно крик боли, солдатским местоимением «Я!». Здесь, как ошеломлённые военнопленные, сгрудились перебежчики из Кишинева, Кустаная, Одессы, Москвы, Новосибирска, Вильнюса, Ташкента и прочая, и прочая. Но уже нет никого, кроме призраков, и ничего, кроме миражей, кроме меркнущей памяти тех, кого кривая вывезла, кому свезло оказаться в батраках на заднем дворе господского дома, у компостной ямы, рядом с толчком, на образцово организованной помойке, где всякая тронутая гнилью падаль складируется в отдельный пластиковый контейнер.
Где ты, малахольный Акрилов, брат мой проклятый, враг мой любимый?
Там же, где все мы. Удачливые и не очень. Разбогатевшие и обнищавшие. Уехавшие или оставшиеся.
В заднице.
Ну, а чё! Всюду жизнь.
8
Я ехал домой в бесконечной электричке, а за окнами её разгорались сквозь кисельный туман электрические россыпи чужого Рождества.
***
© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.