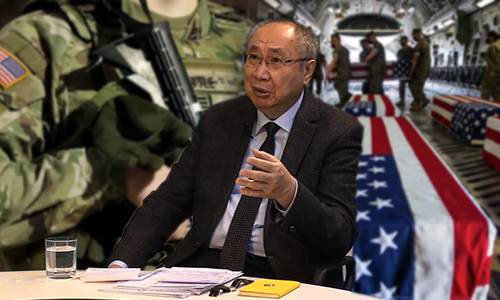1
Комнатка моя называлась «кавалерка». Вместо кухни – ниша, в ней плита о двух конфорках. Телефонище, вырубленный из цельного куска бурого угля, увесистый, как пудовая гиря. На диске дырки для пальцев, цифры и буквы. Звонить по нему домой дьявольски дорого. Телевидение только польское. Газеты тоже. Имелся радиоприёмник, огромный, как саркофаг. Однажды глубокой ночью поймал в нём казахское радио. Чуть не заплакал.
Окно моё выходило на крышу ресторана, пристроенного к зданию. На входе красовалась надпись: Żydowska restauracja Menora. «Жидовская ресторация» напрягала. Но в польском языке нет слова «еврей». Привык.
В пятницу к «Меноре» съезжались подержанные «самоходы», из них вываливались крупногабаритные старики в широкополых шляпах. Долгополые, гривастые, бородастые, похожие на Маркса. В заведении подавали пузатую водку с названием «Кошерна», а фаршированный карп был сладкий, как горклый мёд.
То есть я застал хвостик времени, когда чужбинная тоска была ещё настоящая, без дураков. По субботам и воскресеньям до изнеможения слонялся по городу, пил одинокое пиво «Эбе». Лето выдалось адское, как в Чимкенте. Иногда стыдливо заныривал в пип-шоу. Там был VHS с порнухой, рядом стопка колпачков из плотной бумаги. Для спермы. Кассеты были старые, порно отстойное, а шоу я ни разу не заказал. Стрёмно было. И подташнивало. Чем-то там пованило. Так и уходил, не передёрнув. В газетах целые полосы объявлений о продажной любви. Запомнилось: «Аттракцийна тшидештилятка». Ну, типа «тридцатилетняя красотка» себя предлагает. Не позвонил ни разу.
В Москве семь высоток, а восьмую Усач подарил Варшаве. «Сталинский будынек». Однажды забрёл из любопытства, а на входе плакат: METRO. Мюзикл. И в списке действующих лиц – Ванда Лёнина (Россия). Ни фига себе. Побрёл на звуки му. По лестнице спускается брюнетка с обморочными ногами и сильно поёт по-английски. Поравнялись. Начинаю мычать: «Пше…пша…пшепрашем, пани. Хчял бы шпытать…» А она вдруг низким голосом – русский, что ли? Это и была Ванда Лёнина. Вернее, Лена Иванова. Москвичка. Певичка. С виду – та самая аттракцийна тшидештилятка.
После репетиции пригласил к себе. Выпили. На бутылках, которые я купил в ночном склепе, было написано «Vino». Склеп по-польски – магазин. Лена распахнула окно, увидела террасу и присела: «Ё-о-о…». Рядом с «Менорой» росла урючина, как в Чимкенте, а тем летом она богато уродилась, и вся крыша была усыпана оранжевыми плодами. Мне-то что, я южанин. А Лена перелезла через подоконник (о, ноги!) и принялась, как обезьяна, набивать рот, мыча что-то непрожёванное. Наелась и спросила – можно домой наберу? Помог ей. Тут она и засобиралась. Говорю, поздно уже, ночь. Отвечает: у меня доча дома. Проводишь? Долго ехали на трамвае. Улица глухая, чёрная. В подъезде она говорит придушенно: «Только тихо, квартирная хозяйка спит за занавеской». А пахнет от этой тшидештилятки так горячо-горячо. Урючным вареньем. Вошли на цыпочках. Она запалила ночничок. В коляске спит девчушка месяцев семи-восьми. А где ваш папа, спрашиваю. Лена начинает шёпотом плакать. «Умер папка-то наш. Полгода как. От передоза. Лёней звали. Прикинь, завтра не знаю, чем дочу кормить…
Понятно. Выудил из бумажника пару тысчёнц, положил на стол и ушёл.
Только со мной могла приключиться такая Love Story.
2
И вот, спустя время, появился лимоновский «Эдичка». И вся моя варшавская жизнь ударила в голову, как стакан ректификата натощак. Личный опыт совокупился с его текстом. Как две половинки критической массы обогащённого урана.
Я сидел с ним на балконе задристанного отеля «Винслоу» и жрал щи из кастрюли, обугливаясь на солнце. Бродил по Мэдисон-авеню, стуча каблуками ковбойских сапожек, а за голенищем таил бритвенное жало «Золингена». Гнобился в «Хилтоне» помощником халдея и давился надкусанными кем-то стейками, запивая их каплями халявного вискаря. Получал в конторе нищенский вэлфер и тут же тратил его на галлон-другой розовой кислятины. Или на дюжину банок Budweiser. Пил эту гадость с бывшими кинооператорами, журналистами, спортсменами, уголовниками, филологами, аспирантами, кидалами и бомжами. Пил, дул косячок и матерился.
Я не верю людям, которые даже мысленно чураются мата. Эта потаённая, сокровенная речь обладает звериной точностью — при полном отсутствии застенчивой образности. Что такое, прости-господи, «член»? Кремлёвский маразматик или пупырчатый отросток, втянувший башку в пугливое лоно брюхоногого бюргера? Обесцвеченные латинской хлоркой «пенис» и «вагина» в переводе на живой русский язык наливаются клокочущей кровью. И яростный, набатный глагол, их соединяющий, гораздо выразительнее старушечьи плямкающего «fuck», употребляемого куда попало.
Лимонов не интересничает этим языком, а барахтается в нём, как зародыш, зреющий в утробных водах. Он выстреливает трассерами слов, которые обычно пульсируют под черепной крышкой и считаются постыдными. Мещаночки, втайне убеждённые, что под одеждой все мужчины голые, этого не примут никогда; их нечистая, потожировая развратность прикрыта нафталиновой благопристойностью, сдобренной душной капелькой «Красной Москвы».
Таким воздухом Лимонов дышать не мог. И потому «изблевал из уст своих» почти сэлинджеровский роман, где Холдена Колфилда зовут подросток Савенко, и родился он не в Пенсильвании, а в Харькове, но это не важно. Всех по-настоящему сердитых парней рано или поздно заглотит, зажует и выплюнет какой-нибудь прожорливый Нью-Йорк, великий и ужасный. «Эдичка» — подростковое гониво о бесприютной, ершистой, угреватой, скулящей, неприкаянной молодости. О животной тяге к сучьим сосцам равнодушной, поганой, подлой, жизни, шумящей, яростной и прекрасной.
Одна из глав «Эдички» начинается примерно так: Сьюзан была первая американка, которую я трахнул в Нью-Йорке. За точность не ручаюсь, но смысл такой. Самец, блукающий по чужой земле, должен её пометить своим семенем. Есть такая «горькая правда земли». Но вот хныканье Эдички, натягивающего на себя ещё теплые колготы скурвившейся жены, явившейся под утро пьянее вина – что это? Позже догадался: его неотвратимо тянуло к пряным чреслам святой шлюхи. Он, как Маяковский, был терпила, рабски боготворящий свою porca madonna. И, рыдая, стирал в раковине её трусики, заляпанные чужой спермой. Этот кошмар с каждым может случиться (не со мной), но кто решится поведать об этом городу и миру? Это вам не сегодняшний слюнявый «каминг-аут», за который разве что в попку не поцелуют.
Ну и, разумеется, Central Park, куда без него.
Мне знаком привкус содомского искушения. За мной «ухаживал» красивый, как Адонис, польский юноша, эстет и интеллектуал. Он приходил с цветами, тортом и шампанским. Девы! Я знаю, что такое слюнявые «знаки внимания». Как вы это терпите? Из озорства я подыгрывал ему, изображая кокетливую паненку, но он, как водится, однажды обнаглел. Я выставил руку, упёрся ладонью в его костистую грудину и рефлекторно прошёлся по скелетным рёбрам. «Влодзимеж! – вскричал он в отчаянии. – Тебе нужна женщина!». Я пожал плечами и подумал: «Не без того, старик, не без того». Выгнал его прочь.
Лимоновский Central Park куда круче. Я сотни раз читал и перечитывал эту сцену. Кто считает, что это «порнография», тот просто матёрый дурак. Он не знает могильной стылости сиротского одиночества, которое грызёт до позвоночника и бросает людей в «неприличное» объятие. Central Park – самое целомудренное изображение греха, когда люди, как щенята, трутся телами в соитии, желая хоть какого-то тепла.
3
Вблизи Лимонов оказался похожим на вышколенного немца, закосившего под есенинскую дурь. Блондинистый, почти белесый, но внутренне сжатый, стальная пружина пистолетной рукоятки, набитой маслянистыми патронами. Сухощавый, с измождённым лицом скопца, жилистый, немногословный, как пехотный офицер, кормивший вшей на передке. Университетские очки с тяжёлыми диоптриями. Тенористый говор с жестяным призвуком, буксующим на ноте стона. Взгляд недоверчивый, ускользающий.
Обстоятельства нашего знакомства он изобразил в одной из своих книг. Меня он там изобразил презабавно. Дурак бы обиделся, да я не дурак. Понимаю, что литературу не нужно путать с жизнью. Лимоновская документальная проза крепко сдобрена романистикой, и это нормально.
Мы пригласили его в арасанские бани. Однажды я рассказал об этом знакомой барышне, живущей в инстаграме. Она возбудилась и заёрзала, сплетая и расплетая ноги: «Ну? И как?». Ей до зуда в промежности хотелось знать, как выглядит голый Лимонов.
Он старательно парился. Отфыркиваясь, долго стоял под душем. Когда очкарик снимает окуляры, лицо его кажется беззащитным. Но у Эдуарда Вениаминовича оно оставалось напряжённым. В своей книге позже он признался, что не доверял нам, ждал, что отравим или утопим в бассейне. Ну а что он ещё мог подумать? У него на хвосте висели менты, а тут какой-то болтливый заместитель дочки Назарбаева. Наверняка заподозрил во мне переодетого чекиста. Вернее, раздетого. Баня всё же.
Этот его карикатурный перформанс «Drang nach Ost», на мой взгляд, восприняли чересчур серьёзно. Убеждён, что политические затеи Лимонова были продолжением литературы, в которой ему показалось тесно. Я ему сказал об этом, он поморщился: «Не знаю, может быть. Я не привык анализировать себя, я живу импульсивно…».
Сидели, дули пиво. Здесь Щербаков и щёлкнул фотку. Андрюша в левой части кадра, усатый, весёлый, живой. Усач справа – Витя Кияница.
Лимонов, напряжённый, насторожённый, недоверчиво смотрит в стеклянный глаз вечности.
Потом водку пили в доме, где он квартировал со своими нукерами. Мы сидели на кухне, а они приглушённо гомонили в комнате. Нукеры были приземистые, кривоногие, жилистые, с недобрыми глазами. Так, должно быть, выглядели воспитанники Макаренко. Один из них вошёл к нам и хмуро спросил атамана: «Кулеш варить будем?».
Позже Лимонов оттаял, пустился в разговоры. Рассказал, между прочим, как сербы поздравили его с днём рождения на передовой. Навели ствол пушки на хорватскую деревеньку, вытащили Лимонова из блиндажа и сунули в руку спусковой шнур. «И что, — спросил я растерянно. – Вы его дёрнули?». Он просёк моё тягостное недоумение и ответил уклончиво, с брезгливой гримаской: «Знаешь, я был такой пьяный, что, кажется, у меня ничего не вышло. Я упал навзничь и вырубился…».
Я спросил про Медведеву, про этот дикий парижский ужас. Он снял очки, стал их протирать подолом рубахи. И глухо, сквозь зубы ответил: «Какой-то мудак напал на неё рано утром. Она выходила из «Балалайки», где работала всю ночь. Бил в лицо, отвёрткой. Шесть раз. И смылся. И полиция его не нашла».
Губы его набухли и чуть заметно дрожали, как у ребёнка. Я не смотрел ему в глаза, боясь увидеть в них слёзы. Это было бы невыносимо.
4
Лимонов славно оттарахтел свои 77 лет, в которые вместил 77 жизней. Полубандитское детство на хрущёбной окраине Харькова, где подросток Савенко чудом не угодил на малолетку. Подёрнутая диссидентской плесенью брежневская Москва, где он шил выпендрёжные пиджаки, самопальные джинсы, клепал самиздатовские стихи и рассказики. Москва вытолкала его в Нью-Йорк, где он стал Эдичкой, которого нелёгкая забросила в Париж, а оттуда снова в одичавшую от перестройки Москву, в Чечню, в Приднестровье, в Югославию, в тюрьму.
Гордый плебей с повадками заносчивого сноба, циничный анфан террибль с трепетным сердцем лирика – и это всё о нём.
Его можно поместить в любую российскую эпоху, и он там приживётся и начнёт бузить. Он мог выйти на Сенатскую площадь и оказаться во глубине сибирских руд. Его могли привязать к расстрельному столбу рядом с Достоевским, но и в кружке Нечаева он тоже представим. Он идеально смотрится рядом с Перовской и Кибальчичем, но и офицером Охранного отделения мог быть блестящим. Он и Гапон, и Азеф, он Мартов и Камо, он мог получить пулю от Ежова, но и занять его место. Лимонов это плазменный сгусток русской истории, которая сдуру разбежится на все четыре стороны, а после снова сойдётся в одной точке, опираясь на которую, в очередной раз перевернёт мир. Он самый русский человек России. Вернее, тот самый русский мальчик, который карту звёздного неба вернёт наутро исправленной.
Слава богу, он стал писателем, и его зубодробительные тексты будут вечно свидетельствовать о том, что у нас была великая эпоха.
Он жил жадно, неразборчиво, пил ветры и глотал туманы своего безумного времени, жрал в три горла его плоть и кровь, гонялся за войной, революцией, но выпала ему тщедушная, бестолковая смута, исполненная менструальной сукровицей так и не разродившейся, вечно беременной страны.
Зато умер правильно, вовремя, на пороге сопливой Третьей Мировой, невидимой, подленькой, пугливой, упрятанной в безликие марлевые маски.
5
Андрей Щербаков, автор фотки, умер два года назад на летнике алматинского кафе. Осталась рюмаха недопитого коньяку. Он был лимоновской породы, излазил вдоль и поперёк всю югославскую войну. Правда, ничего толком не написал, не смонтировал.
Зато придумал гениальную подпись к этому снимку:
ЭТО МЫ С ЭДИЧКОЙ!

28 марта коронавирусного года, Берлин
***
© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.