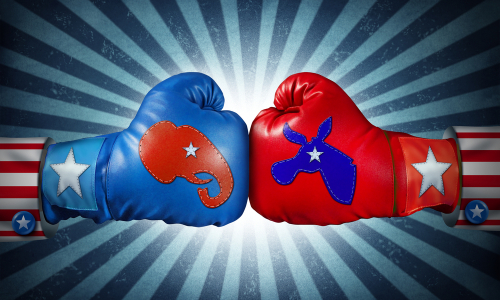Сразу же после объявленного приговора военного суда Акмолинского гарнизона по делу Рахата Алиева, на интернет-сайте последнего появилась “Срочная телеграмма”. В силу определенных причин не будем повторять, что имел в виду и к кому именно обращался опальный политик, попытавшийся выступить в роли легендарного Ваньки Жукова, того самого, что писал на деревню дедушке про “Селедкину морду, которой в харю тычут”. Как говорится, “знающим и так все ясно”. По всей видимости, это был своеобразный ответ, на приговор, вынесенный 26 марта 2008 года в г.Астане военным судом Акмолинского гарнизона, который осудил 16 граждан РК, являвшихся членами ОПГ, к длительным срокам тюремного заключения. Пятеро из них: Рахат Алиев и Альнур Мусаев, а также Сергей Маневич, Александр Крайнов и Сергей Зазуля осуждены заочно, поскольку в настоящее время они находятся в дальнем зарубежье. Вкратце напомню, что решением суда руководители ОПГ, коими были признаны Рахат Алиев и Альнур Мусаев, приговорены к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Тем временем, пока казахстанские власти выносят заочные решения на закрытых судебных процессах, общественность задается множеством вопросов, гадая, что следует ожидать в данном случае и к чему приведет это противостояние “отцов и детей”. Анализируя произошедшие события, со своим мнением на эту тему решили поделиться казахстанские общественные деятели и политологи.
***
— Можно ли воспринимать публикации материалов и распространяемый командой Рахата Алиева компромат как действия загнанного в “угол”, или, наоборот, человека пытающегося раздразнить зверя, дабы показать всему обществу его неприглядный облик?
Общественный деятель, журналист Сейдахмет Куттыкадам:
— Мне кажется, что в данном деле и не нужно особого комментария. Ведь и так все ясно. Пока он был зятем, пока он был всемогущим, пока он был в хороших отношениях со своим тестем, все было нормально. А сейчас все его действия очевидны. Да и сам суд был весьма потешным. Ведь никого из главных действующих лиц на месте не было. И отсюда возникает вопрос, как так случилось, что в свое время этим людям дали возможность уехать за границу. Ну и что с того, что было вынесено такое решение. Большинство из таких решений наклевывалось еще в 2001 году. А тем временем “маленькие рахаты алиевы” до сих пор сидят на своих местах. Сейчас они скрыты, а завтра ситуация поменяется, не дай Бог, пошатнется власть Нурсултана Назарбаева, сотни “рахатов алиевых” появятся. Понимаете? Сотни! Вот ведь в чем проблема. Поэтому надо нам сейчас забыть Рахата Алиева. На периферии пусть им кто-то конкретно занимается, но основной власти надо решать текущие дела. Вообще я думаю, что мы всегда занимаемся вещами, которые уже не нужны и ушли в историю. Сейчас нам надо заниматься более актуальными, насущными проблемами: укреплять государство, очищаться от коррупции и лжи, поднимать здравоохранение, образование, страну надо на ноги ставить. Понимаете? Как будто эти горящие сиюминутные темы подбрасывают им какие-то дела, на которые отвлекается общественность. Рахат Алиев – политический труп. Он сам себя обозначил вот так. Нечего теперь его дергать, реагировать на его выпады. Он ушел в историю, пусть теперь им занимаются историки. А власть и общество должно заниматься сейчас другим.
Руководитель Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, правозащитник Евгений Жовтис:
— Еще когда был первый процесс над Рахатом Алиевым, связанный с похищением банкиров, я говорил, что заочные процессы не лучшая возможность добиться справедливости и устранения безнаказанности. Понятно, что они ущербны по процедуре, потому что нет человека, а защита назначена, которую сам подзащитный не выбирал; подсудимый не выдвигает собственных аргументов; нет состязательности по существу процесса. Все очень слабо и очень ущербно. Даже если самим себе объяснять, что вот, мол, он бегает, мы его достать не можем, такие вопросы к процессу с точки зрения его справедливости, с точки зрения выяснения действительной истины, понятно, что она явно односторонняя. Так вот сам по себе процесс, по форме его проведения, предполагал, что человек находящийся за пределами страны, будет себя чувствовать безнаказанным и, соответственно, будет издеваться, иронизировать и т.д. тем более что у Рахата Алиева, после второго процесса получилось 2 раза по 20. А до этого (хотя это и не очень удачное сравнение), был процесс Акежана Кажегельдина, который как бы 10 лет отсиживал, за пределами страны. Это не говоря уже о том, что на процессе Акежана Кажегельдина вопросов было на порядок больше чем у Рахата Алиева и его людей. Поэтому, эти самые процессы, проведенные заочно, неизбежно должны были привести к такому результату. Ну, не надо было этого делать. Я все время говорил, что если вы хотите обеспечить ключевой момент правосудия: установления истины и предупреждения безнаказанности, такими действиями этого не добиться. В результате истина была установлена, но не до конца. А безнаказанность как была, так и осталась. В международной практике заочные процессы, конечно, проводятся, но крайне редко. При этом чаще всего они носят не уголовный, а политический характер. Я не берусь судить насколько доказана вина Алиева, достаточно или не достаточно, я просто говорю о процессе как таковом.
Политолог Эдуард Полетаев:
— Я думаю, что вся информационная деятельность Рахата Алиева в последние месяцы посвящена реакции на выпады против него. После того как австрийский суд отказал в выдаче Рахата Алиева и его ближайших помощников, было понятно, что Астана на этом не успокоиться и будет продолжать все приемлемые и возможные действия, чтобы дискредитировать Рахата Алиева и так сказать раскрыть глаза общественности и международным наблюдателям на его деяния. Безусловно, Рахату Алиеву в отсутствии информационных ресурсов необходимо предпринимать какие-то адекватные ответы. Ведь в его команде все еще остались профессиональные журналисты. Те же Шуховы, например. Они понимают, что даже западные СМИ, которые заинтересуются дальнейшим ходом процесса над Рахатом Алиевым, предпочитают пользоваться информацией с двух сторон. Естественно, Рахату Алиеву, как человеку, который контролировал достаточно серьезные медиа-ресурсы, не с руки оставаться без такой информационной поддержки. Поэтому любые, как может считать Рахат Алиев, выпады в его сторону, будут получать ответы на его сайте. При этом я уверен, что даже если какая-то информация не будет доступна и будет тем или иным образом блокироваться, он найдет другие инструменты, с помощью которых сможет доносить до общественности свое мнение либо какие-то компрометирующие материалы. Таким образом, любой материал который публикуется от имени Рахата Алиева, либо его команды, можно назвать “Ответом Чемберлену”.
***
— В таком случае, можно ли ожидать, дальнейшей реакции со стороны властей? Если учесть предположения, что власти боятся появления его книги, и уже предприняла определенные действия в отношении ряда независимых СМИ, получивших предупреждение не публиковать главы “Крестного отца” в обмен на обещание “о спокойной жизни”.
Эдуард Полетаев:
— Алгоритм действий властей можно вычислить по недавним примерам. Скажем на примере Акежана Кажегельдина, после того, как его тоже заочно осудили. Те информационные ресурсы, которые его поддерживали, подвергались определенному давлению. На мой взгляд, Рахат Алиев в информационном плане находится в более выгодном положении. Об этом свидетельствует огромный вал информации и, так называемого, компромата, который не был характерен для периода миграции Акежана Кажегельдина. Хотя, судя по эмоциональной составляющей, тут действительно чувствуется большая степень агрессивности. Естественно, если можно было бы договориться с помощью каких-то встреч в Европе с бывшим премьер-министром, который тоже по сути дела имел контроль над некоторыми СМИ, о чем свидетельствует их перепродажа в 1999 году, можно было бы говорить о том, что он действовал бы более взвешенно. В данном же случае, эмоциональная окраска более грубая и подается в виде “слива”, т.е. эти действия напоминают войну компромата в России еще в 90-х годах. В то время как сегодня и общество, и власть уже больше привыкли к другим формам подачи информации, более взвешенной, составленной с помощью некоего аналитического агентства. Поэтому не исключено, что на эти агрессивные, эмоциональные выпады власть будет искать адекватный ответ, тем более что позиция Казахстана в ближайшее время будет просматриваться многими международными наблюдателями. Есть внутринациональный праздник – 10-летие Астаны. Есть в скором будущем и председательство Казахстана в ОБСЕ. При этом нет никаких гарантий, что очередная партия компромата не спрятана где-то в недрах Всемирной сети и не будет выложена. С этой точки зрения надо полагать, что властям все-таки придется быть весьма осторожными. Конечно же, главный аргумент – это “20+20”, двойной срок, который всегда будет весомым в устах тех чиновников, которые будут вести беседы с обществом и редакторами независимых изданий, объясняя, что по казахстанскому законодательству этот человек и его сообщники являются преступниками. При этом понятно, что основные электронные и печатные СМИ не будут публиковать материалы, предоставляющиеся из-за рубежа. Но, учитывая сложившиеся у нас традиции получения информации, на мой взгляд, как бы не пытались власти полностью заблокировать сети Интернет, у них это не получится, даже если создать национальную информационную систему. Более того, подогретый интерес, с одной стороны, не позволит закрыть до конца это “окошко”, а с другой, позволит властям вывести сливаемый компромат на уровень слухов: “Одна бабка сказала…”. Это дает какую-то гарантию для властей, что резонанс не будет столь существенным. Судя по счетчикам посещаемости наиболее популярных сайтов, можно заметить, что к “жареной” информации имеют доступ лишь несколько тысяч человек в Казахстане, что, понятно, не достаточно, чтобы вызвать негативное возмущение, какую-то отрицательную реакцию, способную привести к активным действиям со стороны простых казахстанцев.
***
— Многие комментаторы казахстанской зоны Интернет задаются вопросом: “Можно ли ожидать, что в ближайшее время осужденные по экономическим преступлениям Галымжан Жакиянов и Мухтар Аблязов, в свое время предупреждавшие главу государства о готовящемся государственном перевороте, будут реабилитированы?”
Сейдахмет Куттыкадам:
— На самом деле так и должно было бы быть. Ведь действительно главными страдальцами в этом деле оказались Галымжан Жакиянов и Мухтар Аблязов, которые прямо сказали об этом. И тот, и другой написали книги, указав, кто, является главным источником и откуда идет угроза государству. Но все эти решения запоздали намного. Вообще у нас всегда все делается шиворот-навыворот. Вот тогда, в 2001 году надо было сразу со всем разобраться. Ведь и Галымжан Жакиянов, и Мухтар Аблязов стояли на своем до конца.
Евгений Жовтис:
— Они же не были осуждены за то, что обвиняли Рахата Алиева в подготовке к государственному перевороту. Они были осуждены по экономическим преступлениям. Другой вопрос, кто расследовал эти экономические преступления, насколько обоснованы тогда были обвинения, которые им были предъявлены, насколько были объективны и справедливы приговоры, и насколько на тот момент, тот суд находился под политическим и иным влиянием. Если сейчас установят, что в тот момент под давлением Рахата Алиева или его группы, какие-то решения принимались в рамках этого самого политического давления на суд, и все доказательства, которые тогда были собраны, вызывают сомнения (а я присутствовал на процессе Галымжана Жакиянова, и могу заметить, что сомнений там было более чем), то тогда эти приговоры будут пересмотрены. Когда мы говорим, что они тогда предупреждали, то, конечно, имеем в виду политический подтекст. А с точки зрения уголовной составляющей, уголовного обвинения, то оно было экономическим.
***
— Позволит ли недавно рассмотренное в Мажилисе “Соглашение о ратификации Конвенции о борьбе с коррупцией”, экстрадировать на родину всех политических осужденных, в том числе и Рахата Алиева?
Евгений Жовтис:
— В деле Алиева ключевая проблема не в том, в чем его обвиняют, а в том есть ли справедливое и беспристрастное правосудие в Казахстане, оценивается ли оно международным сообществом как объективное и свободное от политического и любого другого влияния. Так вот решение австрийского суда об отклонении выдачи Алиева, оно на этом и основано. Да и итальянского суда в отношении Акежана Кажегельдина, тоже основывалось на сомнениях, что судебный процесс в Казахстане справедливый и независимый. Я сейчас не берусь судить: есть ли или нет каких-то политических моментов в этом судебном решении, вынесено оно было за закрытыми дверями. Есть международные стандарты судебного правосудия. Австрийский суд посчитал, что казахстанский суд этим международным стандартам не соответствует. Поэтому не зависимо от вынесенного Алиеву срока, если австрийские власти до этого не выдали обвиняемого, то мало вероятно, что выдадут осужденного. Вместо того чтобы улучшать правосудие, чтобы оно отвечало международным стандартам, либо, о чем я неоднократно говорил, попытаться все-таки создать прецедент и обеспечить правосудие в той же самой Австрии, у нас проводится заочный процесс. Хорошо, провели заочный процесс. Дальше что? Дальше получили вместо обвиняемого – осужденного, при тех же самых проблемах. А с точки зрения многих международных экспертов, существуют очень серьезные сомнения о том, что заочное судопроизводство отвечает критерию свободного судопроизводства. Да, по коррупции мы что-то подписали, и сейчас мы, возможно, будем доказывать, что средства, которые находятся на счетах г-на Алиева, получены в результате коррупционных правонарушений, но это же к конкретным делам-то никакого отношения не имеет. Потому что здесь был вопрос не столько о коррупции, сколько об уголовных преступлениях, государственном перевороте и т.д. Поэтому я не думаю, что сама ратификация Конвенции как-то эту ситуацию изменит. Возможно, она позволит найти счета со средствами тех лиц, которые находятся за рубежом. Но ведь это и палка о двух концах. Если будут искать следы одних, как бы не появились следы и других.
***
В заключение, хотелось бы отметить, что отдельные общественные деятели, некогда вызывающие своим независимым мнением серьезный резонанс в обществе, рассуждая о последствиях вынесенного приговора, все же предпочли заметить, что сегодня заниматься политикой и высказывать свое мнение на страницах прессы – себе же дороже. Правда, при этом они все же посетовали на то, что казахстанские силовые структуры сделали большую ошибку, осветив вынесенный приговор, поскольку заранее предупредили общество об имеющихся в наличие средствах устрашения.