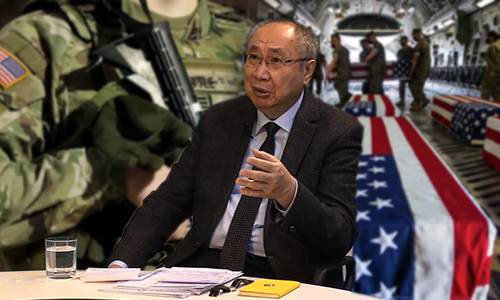В известном фильме “Тринадцать” М. Ромма (I936) преследующие басмачей красноармейцы называют “афганцем” ветер, дующий со стороны Афганистана. Явно вкладывая в это понятие также и фигуральный смысл.
Интересное время: именно в эти годы в головах советского руководства заваривалась та солона каша, которую несколько поколений расхлебывали, кое-что оставив еще и на будущее. Именно в этот период в сфере общественного сознания был заключен тайный “договор” между двумя ее сторонами, вербальной и невербальной, когда стало принято говорить одно, а думать… нет, нельзя сказать, чтобы совершенно другое, но — далеко не то же самое, что говорилось.
С вербальной стороны идея мировой революции не только продолжала здравствовать, но даже как будто еще и крепла. В военно-патриотическом романе Петра Павленко “На востоке” /I937/, написанном по прямому внушению сверху, читаем: “Все понимали, что границей Союза являлась не та условная географическая черта, которая существовала на картах, а другая — невидимая, но от этого еще более реальная, которая проходила по всему миру между дворцами и хижинами. Дворцы стояли по ту сторону рубежа”. Чуть раньше говорится, что условные, то бишь юридические границы “коммунизм” сметет в любой момент — “когда нужно”. Эта воля к мировой революции инерционно протянула почти до самого конца советского режима, сделавшись у следующих поколений привычкой, то есть, по известному определению, второй натурой.
Более значимой, однако, представляется невербальная сторона, Здесь мы обнаруживаем “простую, как мычание” и советским нечаянным властителям, вылепленным “из грязи”, гораздо более свойственную, нежели влеченье к гипотетическому коммунизму (при том, что они, по-видимому, вполне искренно сами себя считали коммунистами), волю к территориальной экспансии, представляющую собою некое продолжение — и одновременно грубое искажение — имперской традиции. Об этом стоит сказать несколько подробнее, тем более, что вопросы преемственности во внешней политике России-СССР давно уже стали предметом кривого толкования у некоторых западных историков, таких, как Р. Пайпс.
По своей изначальной идее православное царство, как и унаследовавшая ей империя, — “дом истины”. Поскольку истина на свете одна-единственная (иначе просто быть не может, а если кто-то другой претендует на обладание ею, то рассудить тут может только сам Господь Бог; терпимость же состоит не в том, чтобы сказать другому “ты тоже прав”, а в том лишь, чтобы за его другую правду не выцарапать ему очи), империя сама себя почитает вселенской и естественным образом тяготеет к расширению. Важно однако, и другое: истина — потустороння, а империя представляет собою лишь временное ее пристанище, которое само обречено тлению1.
 «Токаев сменил участок, Назарбаев пожелал удачи: как прошёл референдум в Астане». «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента». «Перевод казахского языка на латиницу: между политикой и прагматизмом»
«Токаев сменил участок, Назарбаев пожелал удачи: как прошёл референдум в Астане». «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента». «Перевод казахского языка на латиницу: между политикой и прагматизмом»1
Нa этот момент обратил внимание историк А. Назаренко: “…Православное царство — не награда нации от Бoгa за какие-то ее заслуги или доблести, а совершенно напротив — иго, тяжкий крест, непосильное (поскольку исторически обреченное) задание”. Разрядка в тексте — моя. (А. Назаренко. Русское самосознание: между Царством и Церковью. — “Москва”, 2000, № 12. С. 40).Шиллер-Жуковский:
Все великое, земное,
Разлетается, как дым;
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим…
Перспектива как будто не слишком веселая, но “строителей империи” она не расхолаживает, во-первых потому, что это “когда еще будет”, а во-вторых и в главных, потому, что все усилия, угодные Богу, неминуемо соберутся в некий эсхатологический “накопитель”.
Такова, повторю, идея; на практике она, конечно, сплошь и рядом замутнялась разными привходящими соображениями и страстями. В идее можно, наверное, допустить отсутствие всякой внешней экспансии, всего того, что выходит за рамки “необходимой обороны”. Не к этому ли зовет странный врубелевский “Богатырь”? Он забрался в чащу и с лукавым видом выглядывает из нее, явно не собираясь никуда двигаться. Он знает что-то, что побуждает его не делать лишних движений.
И все же практика не позволяла себе слишком далеко уходить от идеи. Принцип умеренного, посильного расширения, за отдельными редкими, даже редчайшими исключениями, соблюдался на протяжении всей истории царства-империи. Возьмем для примера то направление, которое нас здесь интересует, — центрально-азиатское. Выйдя однажды на рубеж казахских степей, русские целое столетие (примерно 1740—1840) никуда дальше не двигались, хотя завоевание среднеазиатских земель в военном отношении представлялось делом не таким уж сложным (что впоследствии подтвердилось: огромные территории, простершиеся до Тянь-Шаня и Копетдага, были покорены ценою одной тысячи убитых солдат и офицеров). Возможно, тут сыграло роль исконное недоверие к пустыне (где, согласно древнему поверью, царит дьявол, преображающийся “овогда же зверьми, овогда же змиями”). Но главным было, наверное, отсутствие достаточной мотивации. Даже беспокойное соседство кочевников, с которыми невозможно было твердо договориться о чем-либо, не подвигло русских выйти за пределы своей оборонительной линии. И если в конце концов трубы вострубили поход, то толчок этому дал европейский ветер (Европа вступала в период ускоренной колониальной экспансии) и то конкретное обстоятельство, что со стороны Индии встречь медленно, но неуклонно двигались англичане.
Теперь о советском государстве. Его изначальной идеей, с течением времени все более отвлеченной, был коммунизм, то есть земное царство справедливости, поэтому вся энергия финализма устремлялась к путям и перепутьям мира сего. Отсюда стремление к неограниченному территориальному расширению, в котором все меньше становилось коммунистического идеализма и все больше — империализма неоязыческого типа (который, конечно, не был чужд и Российской империи, но присутствовал в ее политике, как некая подспудная величина).
И еще существенный момент. Новая советская “элита”, к середине 30-х годов окончательно сменившая у власти более или менее культурную большевистскую “старую гвардию”, к роли элиты ни с какой стороны не подготовленная, испытывала патологический страх перед непонятным ей внешним миром. Страх, который еще усиливал ее агрессивность. С каким значением в тех же “Тринадцати” произносится слово “афганец”! Там враги, оттуда можно ждать каких угодно пакостей. А речь-то идет о стране, погруженной в свое дремотное существование и ни о каких внешних акциях не помышляющей, более того, едва ли не первой установившей дружественные отношения с красной Москвой. А что в северных ее районах, слабо контролируемых центральной властью, нашли приют басмачи, совершающие иногда (все реже и реже) набеги на нашу территорию, то это, право, не такая уж страшная угроза для могучего советского государства.
Как раз напротив, СССР угрожал — Афганистану. На дворе еще стоял (или, скорее, бежал) 1920 год, еще шли бои с “белополяками”, а председатель Реввоенсовета республики Троцкий уже чертил на карте большие красные стрелы, устремленные к Индийскому океану, одни из которых протыкали насквозь Персию, а другие Афганистан. Отныне в головах энтузиастов мирового коммунизма прочно поселилась мечта о дальних походах в южном направлении, о грядущей “битве на Инде”, о том, как усталые красные легионы окунут “свои пыльные сапоги в теплые воды Индийского океана” (Николай Тихонов. “Кочевники”. 1930). И это была не просто мечта, это был умысел, требующий осуществления при некоторых сопутствующих обстоятельствах. Умысел, который со сменой руководства в Кремле еще подогревался недомыслием, выразившим себя в формуле “упредить врага”.
Сопутствующие обстоятельства возникли только в 1979 году, когда было принято роковое решение о вводе “ограниченного контингента” в Афганистан. Уже загнивающий режим вздумал осуществить мечту своих молодых лет — “махнуть к Индийскому океану”, как выразился ветхий министр обороны.1 (Стоит отметить, что Генеральный штаб, к его чести, возражал против этой авантюры.) И здесь сработала формула “упредить врага”; на сей раз — мирового врага, то есть Америку. Сейчас некоторые проницательные аналитики жалуются: во всем, дескать, виноваты американцы, это у них была такая стратегема — втянуть нас в войну, в которой мы увязли бы, как прежде сами они увязли во Вьетнаме. Что на это ответить? Не давали б себя втягивать. Всего-то надо было — “чтоб башка была на плечах, а не под мышкой”.
1
Цитирую по книге генерала армии А.Майорова (бывшего советником, а фактически главнокомандующим в Афганистане в I980—1981 гг.) “Правда об афганской войне” (М.,1996). В этой книге, кстати, действительно много нелицеприятной правды: о преступном реше- нии — принятом политическим руководством и поддержанном некоторыми генералами — пустить в дело бомбы, запрещенные Гаагской конвенцией, о случаях зверства, проявленного советскими военнослужащими и т.д.Что оставила после себя эта война? Пятнадцать тысяч убитых солдат и офицеров, десятки тысяч искалеченных, еще большее число поврежденных морально. Правда, генералы и офицеры приобрели некоторый опыт современной войны, но следует помнить, что это опыт поражения, а не победы. Еще осталась романтика “афганских” песен: о трудных горных дорогах, о голубых минаретах Герата, о садах Кандагара, о выжженных солнцем глинобитных кишлаках, где пуля настигла друга.
Не хочу заключать слово “романтика” в кавычки: не сомневаюсь, что и в этой “грязной” войне был элемент традиционной и вполне, так сказать, легитимной военной романтики. Между прочим, так далеко на юг никогда прежде не ходили русские войска. Шли стезями Александра Великого, брали или защищали города, связанные с именем прославленного полководца, задавшегося целью соединить Восток с Западом (Герат — Александрия Арион, Кандагар — Александрия Ара-хозион). Если бы еще в этой войне было больше смыслов и если бы не была она такой “грязной”! Возможно, что тогда она и не окончилась бы тем, чем она окончилась — бесславной ретирадой.
Для таких случаев существует утешительная поговорка: не тот казак, что повалил, а тот, что вывернулся.
Впрочем, вывернулся ли?
Все последствия афганской авантюры пока еще трудно измерить. Потому что в наше время авантюры подобного рода имеют неприятное свойство порождать далекоидущие последствия, наподобие брошенного камня, вызывающего сход горных лавин. В прежние бесхитростные времена, когда “водка была крепкая, сабля вострая, а вера детская”, иная авантюра (кстати, понятие, в западных языках не имеющее столь резко негативных оттенков, как в русском) могла скользнуть по поверхности чьей-то чужой жизни, не вызывая в ней глубоких потрясений. (Оттого можно, например, пожалеть, что не состоялся задуманный в 1801 году поход казаков Платова в Индию, через Среднюю Азию и Афганистан; это была бы красивая авантюра, — конечно, в случае, если бы она увенчалась успехом). Не то сейчас, когда “война входит в каждый дом”. В данном случае она вошла в каждый афганский дом. Вооруженный до зубов и уже начавший разлагаться “ограниченный контингент” за десятилетие без малого столько наворотил в Афганистане, что война эта еще долго будет аукаться, и не только внутри страны, но и далеко за ее пределами.
Кое-кто думал: вот уйдем оттуда — и афганцы вернутся в прежнее свое дремотное состояние. Примерно то, из какого никогда не выходили статуарные аксакалы в “Белом солнце пустыни”. Но слишком изрыта была земля меднокопытными быками, слишком много зубов дракона в нее посеяно, чтобы такое стало возможным. Я не хочу сказать, что все, что произошло за последние двенадцать лет в Афганистане, есть результат советского вмешательства. Скажем, “обновление ислама” в том или ином направлении, вероятно, наблюдалось бы там в любом случае. Но победное шествие ваххабизма надо, как я полагаю, отнести целиком или главным образом на счет последствий войны.
Прежде чем продолжить эту тему, следует уточнить, что собственно такое представляет собою ваххабизм. Для чего придется отправиться туда, куда зовет верующих мусульман кыбла — направление, указывающее на Мекку.
Простое и твердокаменное
Возникновение ваххабизма тоже связано с продвижением русских войск (только победоносным, а не злополучным, как в Афганистане) — сколь ни неожиданно это звучит, если учесть отдаленность мест его рождения от российских пределов.
Движение ваххабитов зародилось примерно в середине и во второй половине ХVIII века в Аравии. Своей целью оно поставило “возвращение к праведным предкам” и очищение ислама от всего “порченого” и “наносного”. Почему ваххабизм возник именно тогда, когда он возник? Ответ на данный вопрос лежит в плоскости политики. В ХIV веке дело Халифата взяли в свои руки турки, у которых не было никаких особых достоинств, кроме одного — они были отличные солдаты. Никакой другой мусульманской силе не удавалось так глубоко проникнуть в Европу, сделав проблематичным само существование христианского мира. Но на исходе XVII века ситуация переломилась: войска римско-германской империи стали теснить турецкие войска, шаг за шагом отвоевывая у них Балканы. А потом на арене появились Румянцев и Суворов, и дело Халифата, по крайней мере в турецких руках, стало пропащим окончательно; после Фокшан и Рымника “Едва дымился бедный турок, //Уже раздавленный судьбой”. Под вопросом оказалось будущее столицы Халифата, Константинополя-Стамбула, на который уже нацелились русские.
Авторитет турецких властителей в мусульманском мире стал быстро падать; тем более, что турки показали себя нестойкими не только на поле боя, но и в быту: “Стамбул для сладостей порока // Мольбе и сабле изменил”. Реакция воспоследовала оттуда, откуда она и должна была воспоследовать: Аравия Каменистая, она же Аравия Счастливая, готова была отстаивать “истинную веру” от осквернителей, включая тех, что угнездились в самой столице Халифата. Главного противника ваххабиты увидели в суфизме с его сложным богословием и его поэзией, выводящей, как они считали и считают, за рамки ислама.
В Аравии всегда косо смотрели на суфиев, о которых судили по тем, “примазавшимся” к суфизму богатым паломникам, что позволяли себе совершать хадж в компании развеселых музыкантов и падших женщин. Теперь их обвинили в том, что это их влияние ослабило мусульманскую мышцу, не способную более одолевать европейских кафиров. Впрочем, истинный суфизм с его сложным богословием и богатой культурой так же чужд и враждебен большинству аравитян, как и его мнимые последователи, слишком буквально понимающие “заветы” Хайяма и Джами. Их, аравитян, мусульманство изначально было — простое и твердокаменное; и в дальнейшем влияние суфизма сказывалось здесь в минимальной степени. С позиции ваххабизма, чуждые исламу культуры вносят порчу в души излишне доверчивых мусульман; поэтому в “Доме ислама” (Дар-уль-Ислам) все двери и окна должны быть наглухо закрыты для посторонних влияний. У европейских псов можно покупать их оружие, но разговаривать с ними можно только через порог.
До недавнего времени страны Аравийского полуострова, и в первую очередь Саудовская Аравия, оставались, кажется, единственным заповедником ваххабизма в мусульманском мире. Обычаи и нравы здесь мало изменились сравнительно с теми, что существовали столетия назад; и такими же, как в былые времена, жестокими остаются наказания для нарушителей порядка. Изоляция от западного мира такая, какая вообще возможна в наше время. В стране нет христианских церквей или каких-либо иных молитвенных домов (для сравнения: в Иране все религии допущены, запрещены только секты). Официально почти вся западная культурная продукция запрещена и за незаконный провоз ее наказывают. Особенно сурово наказывают за провоз порнорграфии, а следует заметить, что к “порнографическим произведениям” отнесены и микельанджеловский Давид, и даже… Мона Лиза — за прелестную улыбку (улыбка и вправду прелестная, но ведь не “порнографическая” же?). Впрочем, запрещены, как и встарь, любые вообще изображения человека, а следовательно, и театральные постановки, и фильмы, за исключением тех случаев, когда предметом изображения являются, например, пейзажи или животные.
Сказанное не означает, что у саудовцев не существует сколько-нибудь развитой культуры. Говорят, что большое место в их жизни занимает поэзия — род словесности, не противоречащий исламу. Традиция, сообразно с которой “настоящий шейх” должен уметь “говорить стихами” в раз и навсегда установленной манере, сохраняет свою силу и сегодня. Стихи постоянно звучат в самых неожиданных для европейца местах: не только при королевском дворе, но и в дальних оазисах, и даже там, где держат совет мудрецы-финансисты (попробуйте вообразить европейского министра на каком-нибудь экономическом совещании, изъясняющегося языком “Неистового Роланда”!). Но, какова бы она ни была, это культура чисто, так сказать, эндогенная, не ищущая внешних контактов и даже нарочито избегающая их; к тому же, кажется, “замороженная”, лишенная внутреннего развития.
Вопреки всем установленным рогаткам, “дурная” западная культура все-таки проникает в страну, и главным ее абсорбентом является сама королевская семья (точнее, целый клан, насчитывающий несколько сот человек). Журналисты-янки и особенно журналистки, пролазы, умеющие забраться в любую щель, утверждают, что иные добропорядочные мусульманки прячут под густой чадрой наушники, льющие им в уши западную музыку, что в гаремах тайком смотрят западные фильмы и т.д. Подобные следы “разврата” находят почти исключительно в верхнем слое. Королевская семья не выдержала испытания свалившимся ей в руки, как следствие нефтяного бума, сказочным богатством: шагнувшая в страну западная индустрия проложила путь западным соблазнам, которым явно дают от ворот поворот, но которым уступают тайно.
Ваххабитская религиозность такова, что придает первостепенное значение внешнему соблюдению обрядов и правил поведения. Это не от лицемерия, но от уверенности, что “так хочет Бог”. Однако же здесь открывается и лазейка, через которую может проскользнуть лицемерие. Положение хранителей Двух Священных Городов обязывает саудовских властителей проявлять максимальную строгость всюду, где затронута вера. И они эту строгость прилежно демонстрируют, даже если дело касается членов собственной семьи. Так, несколько лет назад была казнена принцесса, тайно встречавшаяся с одним молодым человеком, как случайно выяснилось. Но если тайное не становится явным, оно остается безнаказанным. Иные саудовские принцы, дабы не доставлять неприятностей себе и своей семье, просто отчаливают от родных берегов в своих роскошных яхтах и месяцами странствуют по свету, ведя жизнь западных плейбоев.
Но спрятать все концы в воду и им не удается. Ваххабитская толща населения, непримиримая ко всему западному, достаточно осведомлена об образе жизни “верхов” и не намерена прощать им “измену”. Кто хорошо знаком с саудовской действительностью, считают, что в стране давно “зреют гроздья гнева” и свержение монархии не за горами. Тем более, что саудовская монархия, как и семь соседних эмиратов бывшего Пиратского берега, лишена ореола, каким был окружен, к примеру, персидский трон. Аравийские общества сохраняют некоторые черты военной демократии: здесь каждый имеет право на собственный гонор (смирение проявляется лишь в отношении Бога), а король и принцы не выше, но лишь первее всех остальных.
Еще одна причина недовольства “верхами” в том, что они равняются на Соединенные Штаты в своей политике. Тегеранское радио называет саудовскую монархию “американским цепным псом” на Ближнем Востоке, а тегеранское радио саудовцы — невзирая на традиционную рознь с шиитами — слушают и во многом ему верят.
Медресе “учат джихаду”
Можно подумать, что ваххабизм достаточно органичен на выжженной солнцем аравийской почве, но чем объяснить его (или близких ему направлений) распространение за последние годы на страны с давними суфийскими традициями? В первую очередь это относится к Афганистану.
По-видимому, “секрет успеха” ваххабизма в его силе отвращения от западного (в широком смысле — современного) опыта; то есть это наиболее антизападническая версия ислама, какая вообще возможна. Говоря так, я не забываю про Иран, страну никоим образом не ваххабитскую. Громы и молнии, которые иранские аятоллы призывали, да и сейчас призывают, хоть и с меньшим усердием, на голову “большого сатаны” и его европейских “подручных”, объективно поставили их в положение закоперщиков воинствующего антизападничества (особенно выгодно для них, в глазах радикальных исламистов, сравнение их с лидерами изначально ваххабитских государств Аравийского полуострова, настроенных соглашательски по отношению к Западу). Но по своему духовному содержанию Иранская революция представляет собою сложное явление; на мой взгляд, она способна дать (да, пожалуй, и уже дает) продуктивные ответы на вызовы Запада и несет в себе обещания высокой степени взаимопонимания и даже сотрудничества — не скажу с Западом, каков он есть, но с христианским миром, заслуживающим этого имени.1 А ваххабизм прост и самодостаточен; и он хотел бы воздвигнуть китайскую стену, чтобы оградить себя от внешнего мира. Это в лучшем случае, в худшем он еще и агрессивен и стремится к неограниченному расширению.
1
Подробнее я писал об этом в статье “Ислам, Россия и Запад”. — “Новый мир”, 2001, № 7.Существует, вероятно, закономерность: где слабеют традиции и уже есть некоторое знакомство с западным опытом, там появляется шанс для ваххабизма. Городские условия для него более благоприятны, чем сельские. Движение талибов возникло не в сельской глуши, как иногда думают, но в беженских лагерях на территории Пакистана, то есть в некотором уже отрыве от родной почвы; и базой его стали медресе, в той или иной мере оснащенные современными средствами информации. Показательно в этом смысле распространение религиозности ваххабитского типа среди американских негров, поставленных в условия полного отсутствия каких бы то ни было традиций. (Кстати говоря, пресловутый Хаттаб, в свое время учившийся в Нью-Йорке, — выученик американских “черных мусульман”).
Талибан самим фактом своего возникновения обязан западному опыту: такого ведь никогда не было на мусульманском Востоке, чтобы движение учащейся молодежи стало силой, конституирующей общественный и политический строй. Такого, правда, не было и на Западе, но идея пришла оттуда — из революционного 1968 года. Традиционные талибы (семинаристы) учились покрывать белые листы бумаги арабесками из каллиграфических завитков и переплетений, воспроизводящими суры Корана и комментарии к нему, и ни о каких политических выступлениях думать не думали. Нынешние — забросили все свое ученье и поклялись, что не вернутся в медресе, пока не “наведут порядок” в Афганистане.
Пока что это им удалось сделать на большей части территории страны (примерно 90% к моменту, когда я пишу эти строки). И как бы ни относиться к установленному ими порядку, нельзя отрицать, что с точки зрения национальных интересов Афганистана они сделали полезное дело, покончив с анархией и с “институтом” полевых командиров. Власть их, судя по всему, достаточно прочна. Их противники, укрывшиеся в ущелье Пяти Львов, в лучшем случае, наверное, сумеют удержать контролируемую ими территорию, а не расширить ее.
К тому же, по некоторым сведениям, идет подспудная ваххабизация в самих Пяти Львах. Если это так, то идея сопротивления талибам утрачивает по крайней мере некоторые из своих смыслов.
Теперь талибы, похоже, укрепляются в мысли, что великие дела их ждут не только в родной стороне. Их вождь Мухаммед Омар, по прозвищу Кривой Мулла, которого никто из иностранцев до сих пор не сподобился видеть, заявляет, что талибы поглощены задачами внутреннего характера, но, если их “вынудят”, они придут на помощь братьям-мусульманам там, где это будет необходимо. Революция талибов вырастает в силу, способную соперничать с Иранской революцией. Примечательно, что их пакистанские друзья и покровители, суровые наследники Великих Моголов, сами начинают на них равняться, уверовав в их плодотворные озарения”. Хвост начинает управлять собакой. Пакистанские медресе, в которых “учат джихаду”, alma mater талибов, становятся рассадниками кадров, ратующих за “обновление” Пакистана в духе последовательного ваххабизма.1 Идет ювенилизация политической жизни Пакистана, которая, как считают наблюдатели, может окончиться “революцией в стиле Талибана”.
1
В этих медресе, пишет американский автор, учится молодежь из многих стран мира, в том числе из стран бывшего СССР, видящая перед собою одну-единственную цель: “водрузить флаги ислама в Дели, Тель-Авиве и Вашингтоне”. Заодно, конечно, и в целом ряде других столиц. (Stern, Jessika. Pakistan’s Jihad Culture. — “Foreign Affairs”. 2000, November-Deсember, p. 124).Талибы начинают учить даже своих саудовских учителей. В свое время саудовские власти посылали миссионеров и добровольных “борцов за веру” в лагерь афганских моджахедов, думая тем самым убить сразу двух зайцев: во-первых, распространять ваххабизм, что положено им делать ex officio, но, во-вторых, избавиться от наиболее рьяных адептов того же ваххабизма. Вроде известного Усамы бен Ладена, сделавшегося странствующим “черным рыцарем” джихада, а в последние годы, кажется, прочно осевшего в Афганистане”. Теперь кабульское радио позволяет себе резкие выпады в адрес саудовских “верхов”, в частности, устами того же бен Ладена (который, как истинный аравиец, нередко облекает свои инвективы в стихотворную форму). Их упрекают в недостаточно последовательном ваххабизме и в сотрудничестве с американскими извергами. А кабульское радио в Саудовской Аравии слушают, как и тегеранское.
Режим, установленный талибами в Афганистане, значительно более суров, чем даже саудовский режим, — хотя бы уже по той причине, что здесь не осталось правящей элиты, которая могла бы тайно предаваться “сладостям порока”, элита всякого рода сбежала из страны еще в период войны с СССР. А талибы — ученики, которые превзошли учителей, — позаботились о том, чтобы добить остатки культуры там, где они их нашли. Скандальной на весь мир стала кампания по уничтожению изваяний Будды, особенно двух наскальных изображений в провинции Бамиан. Но это хоть памятники мертвой (в пределах Афганистана) культуры. Между тем не лучше они обошлись и с культурой живой. Выразителен в этом отношении погром, учиненный ими в Герате, древнем центре персидско-афганской культуры, славном не только своими мечетями и медресе, но и широко почитаемыми могилами поэтов Джами и Ансари. Еще в недавние времена здесь существовала суфийская академия, а многие женщины были эмансипированы почти до европейского уровня и даже говорили иные по-французски (в городе было два французских лицея). Талибы закрыли (здесь, как и в других местах) все учебные заведения, а женщин не только обязали носить глухую чадру, но и запретили им появляться на улице без мужского сопровождения; и даже приказали так занавесить все окна, чтобы их не было видно с улицы.
К женщинам талибы, видимо, питают глубокое недоверие. Выросшие, в большинстве своем, в отрыве от матерей и сестер (ибо таков характер медресе, в которых они учились или продолжают учиться), вообще от традиционного племенного быта, они оградили себя рамками сурового мужского братства, чем-то напоминающего духовно-рыцарские ордена европейского Средневековья; женского духа тут нет и в помине.
Талибы, правда, утверждают, что учебные заведения закрыты лишь на время, пока не проведена коренная реформа образования, а женщины убраны с глаз долой не в последнюю очередь потому, что мужчины еще не научились должным образом с ними обращаться. Что ж, посмотрим. Пока что религиозная полиция по-своему заботится, как это официально формулируется, “о возрастании добродетели и усекновении порока”: палки полагаются за малейшие отступления от правил шариата, а более серьезные преступления наказуются отсечением конечностей или смертью под топором. В иных городах или весях отсеченные конечности развешивают прямо на деревьях, стоящих вдоль улиц, для устрашения тех, кто еще не преступил. Такая вот, мягко говоря, причудливая действительность.
Строгий запрет наложен на ввоз западной культурной продукции визуального ряда, притом любой, а не только “дурной”. Телевидения не существует вовсе: несколько лет назад все телевизоры были изъяты и уничтожены. Изъяты все фотоаппараты. Запрещены не только алкогольные, но и псевдоалкогольные напитки, принятые в других мусульманских странах — безградусные “вино” и “пиво”, вкусом схожие с настоящим вином и пивом. Резон: сила воображения уже способна вызвать некоторое опьянение.
Было бы, однако, глубокой ошибкой видеть в движении талибов одно только наступление варварства и не видеть в нем ничего другого. Карательные меры являются у них не главным, но лишь дополнительным средством поддержания нравственного порядка, основной источник которого — вера. Редкие иностранцы, побывавшие во взятом талибами Афганистане, выносят оттуда не только тяжелые впечатления, но порою и светлые: здесь царит порядок не в худшем смысле этого слова, уважаются законы, включая те, что ограждают частную собственность и права личности, в мусульманском их понимании, люди на улице (точнее, мужчины, ибо женщин за чадрой не разглядеть) дружелюбны и держатся с достоинством. Нигде никогда не видно пьяных, что, наверное, тоже не портит пейзаж.
И гонения на культуру не означают, что талибам чужды эстетические чувства как таковые. Просто они предпочитают пленэр. Мухаммед Омар, во всяком случае, зовет своих друзей и совоинственников вдыхать ароматы цветов и любоваться струением фонтанов. Видимо, пушкинские строки “Постимся мы: струею трезвой. // Одни фонтаны нас поят…” могут быть отнесены к ним в двояком смысле, то есть фонтаны поят их буквально, но также и эстетически. (И кто решится утверждать, что в стихотворении “Стамбул гяуры нынче славят” Пушкин ставит себя на место жителей Арзрума, блюдущих чистоту ислама, т о л ь к о иронически?)
Их взаимонепонимание с Западом (или с “современным миром”) в этой части обусловлено тем, что они говорят на разных языках. Запад говорит на языке культуры, талибы — на языке веры. Беда в том, что “перевод” с одного языка на другой является сегодня делом очень не простым, а кое для кого вообще недоступным. Такова объективная ситуация. Кстати говоря, не впервые возникающая в истории. В европейской истории, в частности. Вспомним хотя бы детей-инквизиторов Савонаролы, которые забивали камнями грешников и устраивали в центре Флоренции (очаг европейского Возрождения!) публичные “Сожжения сует”, бросая в огонь книги, картины, шахматы и мандолины. Чем они лучше талибов? Определенно, они даже хуже, если присмотреться к тому, что они бросали в огонь и что, говоря фигурально, бросают в огонь талибы.
Некоторые иронические высказывания в адрес талибов бьют мимо цели, вроде того, что они-де закрыли бани по причине духовного подъема, не позволяющего им снисходить до забот о чистоте тела. На самом деле афганцы, конечно, продолжают мыться, только у себя дома. А закрытие общественных
бань — мера, вероятно, спорная, но не такая уж нелепая, если учесть традиционную слабость Востока в отношении гомосексуальных связей.
В политическом плане отметим у талибов сильно выраженный эгалитаризм (вообще сильнее выраженный в исламе, чем, например, в христианстве). Демократия западного типа, с их точки зрения, — “жирная и самодовольная ханум”, которая любит богатых гораздо более, нежели бедных (на принцип частной собственности, как я уже сказал, талибы не посягают, но “чрезмерное” скопление богатства в одних руках считают недопустимым), а на жителей Третьего мира смотрит, как на людей третьего сорта (что, право же, далеко не всегда справедливо). Под свое знамя талибы зовут всех людей без разбору, к какой бы нации и расе они ни принадлежали, лишь бы они приняли ислам в той версии, какую исповедуют они сами.
Все эти моменты необходимо учитывать, потому что иначе трудно понять, в чем соблазн ваххабизма, проложивший ему дорогу в Афганистане и в других странах.
В рамках ислама ваххабизм представляет собою наиболее сильно выраженный тип религиозного законничества, и к нему может быть отнесено многое из того, что сказано на сей счет в Посланиях ап. Павла. В той мере, в какой он является проявлением мирового естественного (“написанного в сердцах”) закона, он содержит в себе ряд позитивных моментов; в то же время он вступает в неизбежное противоречие с природой человека, взыскующей иных смыслов, кроме тех, что прописаны в законе. Я не хочу сказать, что в ваххабизме нет иных смыслов: “стяжание духа любви” прописано и в Коране, а ваххабиты стремятся буквально следовать всему, что в нем прописано; но в том-то и дело, что они буквалисты и потому упор у них, судя по всему, сделан на соблюдении закона. Поэтому успехи ваххабизма могут быть только временными (что не должно звучать утешительно, ибо время его успехов может объять жизнь нескольких поколений), по крайней мере за пределами Аравийского полуострова. В своем изначальном “заповеднике” ваххабизм еще более или менее соответствует характеру проживающих здесь племен, чего никак нельзя сказать об иных краях.
Творчество истории ускользает от законнических норм. Поэтому ваххабизм стремится к самоизоляции от внешнего мира, включая сюда неваххабитскую часть мусульманского мира. Ваххабиты хотели бы “выключить” себя из истории, и эта их попытка сама становится событием истории, тем более заметным и тем более чувствительным для остального мира, чем шире окажется ареал их преобладания или хотя бы только проникновения. Фигура Кривого Муллы во главе талибов — случайность (то есть отсутствие у него одного глаза — случайность: потерял его в войне с шурави), но бывают случайности, которые не совсем случайны. Единственное око, даже если допустить, что оно наделено некоторой остротой и той прозрачной чистотою, какую иногда дарует Аллах возлюбившим его, не может дать объемного зрения. Картина мира неизбежно упрощается, так что все хоть сколько-нибудь сомнительное или кажущееся таковым относится к ведомству темных сил. Когда в Иране главного своего противника называют “большим сатаной”, это можно объяснить пафосом борьбы, который рано или поздно уступит, да уже уступает, более взвешенным суждениям о нем (справедливости ради замечу, что дьяволизация противника, в данном случае Ирана, не совсем чужда и американцам); ибо в иранской религиозно-культурной традиции заложено понимание того, что враг рода человеческого манифестирует себя в этом мире не столько в “химически чистом” виде, сколько в различных сложных соединениях. А ваххабитам подобные тонкости, требующие внимания к разного рода нюансам, недоступны абсолютно. Поэтому искать взаимопонимания с ними трудно. И сами они не ищут его, ни с кем никогда не вступая ни в какие дебаты.
Есть в талибане (как и в ваххабизме в целом) два течения: более умеренное и агрессивное. Пока что тон задает второе, ставящее целью “мировую исламскую революцию”. Идея джихада, который раз и навсегда покончит с неверными, особенно легко овладевает юными неокрепшими душами.1 “Планетарно мыслящие” талибы даже отказываются считать себя гражданами Афганистана; единственное государство, коему они мысленно присягают, — будущий всемирный Халифат.
1
Следует заметить, что идея джихада (в смысле борьбы с неверными) никогда не угасала в мусульманской душе (по крайней мере, это относится к Афганистану и некоторым другим краям), но все последние столетия горела в ней спрятанным огоньком, заведомо неспособным вызвать сколько-нибудь значительный пожар. Лариса Рейснер оставила любопытное описание урока географии в афганской школе, которую ей позволили посетить: “На карте они знают только границы старых, когда-то непобедимых мусульманских царств и, пожалуй, еще те эфемерные пределы, которые до сих пор грезятся яростным панисламистам. Девочка четырнадцати лет отвечает урок по географии. Она находит на карте всего мира крохотный Тунис, Алжир, Бухару и Марокко. Для нее это страны, подпавшие под рабское иго неверных и ожидающие нового пророка и воина, который бы вырвал их из-под европейской пяты. Черные глаза горят фанатическим огнем, а крохотная смуглая ручка грозно сжимается над двумя грешными, неправоверными полушариями”. Тогда, в 20-е годы, это был “сон”, неспособный вывести Афганистан из его статуарной позиции. Л. Рейснер. Избр. произв. М., 1958. С. 165.)Власть — мечетям?
По телевизору показали репортаж с таджикско-афганской границы. Как только смеркается, так с обоих берегов реки Пяндж начинается перемигивание фонариков: это вооруженные отряды наркоторговцев обмениваются сигналами со своими сообщниками. О наркоторговле мне еще придется говорить, но перемигивание фонариков, кроме своего прямого назначения, мне показалось еще и символическим. Будто советская в недавнем прошлом Средняя (или Центральная, как теперь все чаще ее называют, включая сюда также и Казахстан) Азия спрашивает о чем-то важном своих южных соседей, с которыми всегда была органически связана (связи сохранялись и в царский период и лишь в советское время были грубо оборваны), и получает в ответ некие подсказки.
Все, кто хорошо знаком с центральноазиатскими реальностями, согласны в том, что процесс исламизации в этом регионе будет неудержимо нарастать. Завоевания европейской цивилизации, в ее русско-советском варианте, оказались здесь гораздо более поверхностными, чем это еще совсем недавно можно было полагать. Глубинные цивилизационные различия сохранили свою силу и действенность. Удивительно, что такой недалекий в иных отношениях поэт, как Николай Тихонов, в исполненном коммунистической бравадой сороковом году почувствовал, что различия эти никуда не делись и что “дружба народов” по-советски вовсе не так прочна, как всеми принято считать:
Тревогу смутную глушили
И дружбой клялись мы навек,
Как будто все мы в путь спешили,
Как будто ехали в набег.
Когда спешить стало некуда, выяснилось, что “табачок врозь”. Тамошние начальники, наиболее русифицированная, наряду с интеллигенцией, часть центральноазиатских обществ, психологически (и даже физиогномически, несмотря на расовые отличия) близкие русско-советским начальникам, в одночасье перекрасились в национальные цвета. Бывшие секретари и председатели заделались хакимами, министры — везирями, вверенные их неусыпному попечению земли стали называться вилайетами и туманами и т.д. и т.п. Ислам всюду был “восстановлен в правах”, как составная часть традиции, но не более того. Власти рассчитывали, что религия послужит им в качестве духовной пристройки к практически сложившимся в постсоветской Центральной Азии порядкам (откровенно деспотическим в одних случаях, авторитарным с некоторыми элементами демократии в других). Вышло иначе.
Пришел Взвешиватель слов с весами в руках
И сломал позолоченные монеты.
(Низами Гянджеви)
Ислам не так легко сделать “ручным”, “удобным” для власть предержащих. Ислам — это и “святые восторги” (Пушкин в “Подражаниях Корану”), и “пламень огненный”, обжигающий нечестивых. И это мечта о справедливости, не только в вышних селениях, но и в пределах земного бытия, мечта, которая у мусульман всегда облекалась в формы Халифата. Идеалом для них служит Халифат, каким он был или считается, что был, при первых четырех Халифах, называемых “праведными”1.
1
Любопытно, что в раннесоветский период отечественные мусульмане в той мере, в какой они принимали советскую власть, также видели в ней разновидность Халифата. Фольклор, собранный в 20-х годах Л. Соловьевым (автором “Похождений Ходжи Насреддина”) на территории Средней Азии, свидетельствует, что Октябрьскую революцию там путали с газаватом, а в Ленине видели “посланца Аллаха” и нового “праведного Халифа”.Как показывают исследования, на большей части Центральной Азии реальная власть на местах постепенно смещается в сторону мечетей. Умонастроения людей все больше зависят от того, кто окормляет их духовно на уровне микрорайона, кто учительствует в местной религиозной школе и т.д. Исподволь, таким образом, подготавливается почва для будущей возможной теократии.
Принципиальный вопрос: в каком направлении будет идти исламизация?
Существует высокая вероятность того, что она будет идти в направлении, указанном ваххабизмом. В центральноазиатских республиках не было, разумеется, такой демографической перетряски, какая в Афганистане явилась следствием войны; но здесь другое обстоятельство облегчает экспансию ваххабизма, а именно, секуляризация, которая за семь десятилетий советской власти кое-какие ощутимые результаты принесла. Положим, в глубины сознания она вряд ли проникла — какие-то мозговые извилины, какие-то движения остались ею незатронуты; тем не менее оказались в значительной степени разрушены религиозные традиции, в рамках которых создавалось определенное “качество” веры. В результате множество людей, скорее всего даже абсолютное их большинство, по сути, заново обращается в ислам и не чувствует себя слишком связанным в вопросе о том, какую версию его выбрать. А выбор всегда или почти всегда есть. Из-за острой нехватки медресе к концу советского периода тысячи молодых людей отправились учиться в Саудовскую Аравию и привезли оттуда понятно что.
Теперь еще и талибы шлют сюда (как и на Северный Кавказ) своих питомцев. Вообще молодежь восприимчива к ваххабизму по причине своей склонности к тем или иным формам максимализма. Будучи у себя на родине скорее консервативной силой, вне ее ваххабизм выступает как сила революционная, сулящая немедленное исполнение мечты о справедливости — тоже естественной, но становящейся особенно требовательной, когда объемы беззакония разбухают так, как они разбухли на постсоветском пространстве вообще, но в Центральной Азии особенно. А что никакое радикальное решение вопроса о справедливости не может быть достигнуто путем законничества, вообще путем внешней организации жизни, это, увы, всякий раз становится ясно только a posteriori. И еще ваххабизм привлекает молодых тем, что четко обозначает врага, внутреннего и внешнего. Внутренний враг — бывшая номенклатура, национальные “болванки”, обструганные “старшим братом” по своему образу и подобию; внешний — “все, кто пишет слева направо”.
К ваххабитам идут и взрослые, которых привлекает главным образом их морализм; хотя у взрослых есть еще определенная боязнь “строгого ислама”. Наибольших успехов это движение достигло пока что в Таджикистане. Здесь, по некоторым подсчетам, ваххабиты составляют уже около трети всего населения, в том числе более двух третей — среди молодых возрастов. Вполне вероятно, что они уже овладели бы этой страной, если бы не присутствие российских войск. Много ваххабитов и в Ферганской долине. На официальном уровне пошла на сближение с талибами — вероятно, на свою же голову — неоязыческая Туркмения; ростки ваххабизма там пока слабые, зато борьба с культурой в стиле Талибана уже развернулась вовсю: в стране закрыты театр оперы и балета и некоторые другие учреждения культуры европейского происхождения. Дальше к северу успехи поменьше, но тоже ощутимы. Ваххабитские общины появились в Приаралье и в казахских степях. Они есть и на территории самой России, причем не только в областях с преобладающим мусульманским населением (это прежде всего, конечно, северокавказские автономии, но также и “внутренние” мусульманские республики), но и в преимущественно русских областях — в глухих ногайских поселках Ставрополья, кое-где в Поволжье и т.д.
Знать, что защищать
Интересная получается провиденциальная цепочка: победный марш русских войск на Балканах отозвался далеко на юге явлением ваххабизма, а неудачное вмешательство советских войск в Афганистане привело к тому, что ваххабизм совершил как бы фланговый бросок в эту страну и оттуда уже грозит самой России.
В одной статье, опубликованной не так давно в “Независимой газете”, говорилось, что необходимо “определиться с иерархией угроз”, возникающих на центральноазиатском направлении. И вправду определиться надо, вот только что предлагает на сей счет автор? Оказывается, главную угрозу для России представляют здесь Соединенные Штаты, а также Япония и Китай. Такая точка зрения, кажется, достаточно типична: наши геополитики склонны считать, что Средний Восток остается ареной традиционной “большой игры” с несколько обновленным составом участников, в которой главными “игроками” выступают великие державы, а местным отведены преимущественно роли статистов.
Геополитическое мышление, пестующее “любимого врага” и совершенно игнорирующее качественно новые явления в истории, демонстрирует уровень проницательности, доставшийся в наследство, вместе со всем прочим, от советских времен. Я отнюдь не предлагаю благодушествовать в отношении Соединенных Штатов. Дядя слишком здоров и плечист, а мозгу у него маловато (я имею в виду “коллективный мозг”: внешняя политика страны все больше ориентируется на данные опросов, следовательно, ставит себя в зависимость от невежественной в подавляющей своей части массы населения), и уже поэтому с ним надо быть постоянно настороже. Но позиции Соединенных Штатов в мусульманском мире слишком слабы, чтобы они могли всерьез кому-то отсюда угрожать; и те элиты, которые с ними еще сотрудничают, сильно рискуют своим положением в собственных странах. Русские для исламистов просто гяуры, тогда как американцы гяуры особо злостные (и всякие соглашения с ними — чисто конъюнктурные и сугубо временные). Главная тому причина: американцы культурно наступательны, они “лезут в душу” всем и каждому, вольно или невольно навязывая свое мировоззрение и свой образ жизни. Русские сегодня ни в чем таком не замечены; наше, как его принято называть, культурное влияние за рубежом приблизилось к нулю. За что, кстати, надо сказать спасибо все той же Советской власти.
Как и за многое другое, разумеется. Вчерашнее увечное величие ныне вызывает род ностальгии у многих наших сограждан, не желающих видеть, что оно-то и является причиной “вдруг” наступившей слабости. В перспективе прошлого СССР смотрится гигантской мрачной головой из “Руслана и Людмилы”, усижен-
ному совами “памятником” незадачливому богатырю, который сам о себе судит не слишком благосклонно: “Я был всегда немного прост…” Хотя “прост” — это еще очень мягко сказано.
Сколько этот горе-богатырь наломал дров в одном Афганистане! Слава Богу, мы научились считать свои жертвы (громадный прогресс в сравнении с эпохой Великой войны), пора научиться считать и чужие. В ходе войны от разных причин погибло около миллиона афганцев. До половины населения оказалось сорвано с места и вынуждено было куда-то переселяться. Даже сейчас за пределами Афганистана остается свыше пяти миллионов беженцев — это пятая часть всего населения страны. В огромной степени разрушена структура внутриплеменных отношений, прервана вековечная трансляция ценностей от старших поколений к младшим, исправно осуществлявшаяся еще в 70-е годы. Выросло целое поколение, видевшее только всеобщую разруху да военные дороги, а ислам воспринявшее в незнаемой прежде иноземной версии — как руководство к построению “нового мира”.
Говорят, между прочим, что в высшем совете Талибана добрую половину составляют калеки: у кого нет руки, у кого ноги, у кого глаза — все это инвалиды войны.
Есть много правды в том, что сказал о последствиях войны известный С.-Хантингтон: “В результате ее составилась неугомонная коалиция исламских организаций, намеренных продвигать ислам в борьбе со всеми немусульманскими силами. Она также оставила в наследство опытных бойцов, хорошо знающих свое дело, базовые лагеря и хорошо развитую систему снабжения войск, отработанную структуру личных и организационных связей, покрывающую весь мусульманский мир, значительные запасы военного снаряжения, включая от 300 до 500 безответственных (то есть безответственно переданных моджахедам американцами. — Ю. К.) ракет типа “Стингер” и, самое главное, веру в себя, в свои возможности, породившую стремление к новым победам”1. Это стремление дает о себе знать “на всех фронтах”, в частности и не в последнюю очередь — на “северном фронте”: афганская Немезида, считает Хантингтон, будет преследовать русских в Центральной Азии и на Кавказе, а может быть, и дальше к северу.
1
Цит. по: Rashid A. Taliban. Militant Islam. Oil and Fundamentalism in Central Asia. London. 2000, p. 130.Немезида, как известно, — “брыкающаяся лошадь”. Связь причин и следствий в вопросе русско-афганских отношений на самом деле сложная и запутанная, более того, далеко не все нити, образующие этот клубок, доступны человеческому взору. Но что ясно, как божий день: постсоветская Россия должна “изблевать” из себя СССР, до конца прочувствовать себя д р у г о й страной и прочим дать почувствовать, что руководствуется иными понятиями и принципами, чем те, которыми руководствовались прежние ее дубоголовые вожди.
Что касается “иерархии угроз”, возникающих на центральноазиатском направлении, то главную из них представляет сам ваххабизм. Ибо здесь идет сейчас борьба за души (и противная сторона понимает это гораздо лучше), в сравнении с которой традиционная драка за “сферы влияния”, за доступ к “нефтяным кранам” и все такое прочее представляется делом второстепенным.1 Вполне вероятно, что мы вступаем в эпоху массовых движений религиозного и квазирелигиозного типа, напоминающих о Передней Азии первых веков христианской эры — тем, в частности, что они не будут считаться с государственными границами.
Ваххабизм — это, если воспользоваться выражением одного из исламских экстремистов, “ветер пустыни, сметающий все лишнее на своем пути” (цитирую по книге Равиля Бухараева “Дорога Бог знает куда”). Худшее, что он может сделать: посеять рознь между “внутренними” мусульманами и остальным населением. “Внутренними” я называю в первую очередь мусульман Поволжья и Прикамья, большая часть которых проживает даже не в своих национальных республиках, но рассеяна по другим регионам России.2 “По религиозной линии” эти народы всегда были связаны с центральноазиатским регионом, откуда (главным образом из Бухары) к ним приходили исламские вероучители, странствующие дервиши, халифы (основатели, полномочные представители) суфийских братств и т.д.3
1
Примечательно, что талибы не пошли на уступку американцам в принципиальном вопросе выдачи бен Ладена, хотя таким образом они перечеркнули для себя возможность строительства нефтепровода, который должен был протянуться через территорию Афганистана.
2 Северокавказские автономии, населенные мусульманами, в юридическом смысле тоже являются “внутренними” для России, но в географическом смысле образуют пограничную зону, и данное обстоятельство, наряду с некоторыми другими, может решающим образом повлиять на их дальнейшую судьбу. На мой взгляд, нельзя исключать того, что в будущем они станут юридически независимыми. Это не означает, что все усилия по наведению “конституционного порядка” в Чечне пропадут даром. Тот рассадник воинствующего исламизма и одновременно бандитизма, каким стала Чечня, в любом случае следовало подавить военным путем — другого выхода у России просто не было. И если когда-нибудь Чечня, а возможно и другие северокавказские автономии, все-таки отделятся от России, такое отделение можно будет допустить лишь при условии, что не повторится ситуация 90-х годов (не исключено, что гарантом неповторения должно будет стать размещение там на постоянной основе российских войск). Впрочем, это все теоретические допущения; пока еще стоит побороться — только теперь уже преимущественно не военными средствами — за то, чтобы северокавказцы остались в России.
3 Вспомним, что после падения Российской империи некоторые мусульманские круги вынашивали проект нового “Халифата от Инда до Волги” — на тот момент совершенно фантастический и все же не случайно родившийся.
К ваххабитам могут потянуться и русские. Уже тянутся, хотя пока еще в порядке исключения из общего правила. Пока что ваххабизм отпугивает тем, что ассоциируется с войной и терроризмом. Но люди, которые непосредственно сталкиваются с ваххабитами, открывают их для себя с другой стороны, а именно, со стороны внутреннего уклада. И здесь, как я уже говорил, есть определенный соблазн — “правильной жизни”. Нынешние российские реальности суть реальности разложения par excellence, в которых конструктивные усилия духа ощущаются еще очень слабо. А тут — вроде бы готовая альтернатива. Это мир, в котором слова “добродетель” и “порок” в их вечном, библейском смысле употребляются без всякой неловкости: каким-то удивительным образом их “воздух терпит”. Здесь никто не ворует, не задирается на танцульках (которых нет), не ищет, чем бы заполнить пустоту. Правда, на современный евроамериканский вкус жить здесь должно быть скучновато, но, может быть, современный евроамериканский вкус — извращенный? Здесь не пьют, не курят, не матерятся. И, наверное, самое глав-
ное — не “ширяются”.
А ведь одна только наркомания с сопутствующим ей СПИДом способна погубить нынешнюю российскую молодежь на корню. Не без помощи тех же ваххабитов. Известно, что основная часть “тяжелых” наркотиков идет из Афганистана; для талибов это род оружия, которое выкашивает ряды гяуров еще прежде, чем они становятся способны нанести какой-либо урон делу Аллаха, как его понимают талибы. Вообще-то вывозить наркотики в больших количествах наладили еще полевые командиры моджахедов, остро нуждавшиеся в деньгах, а талибы, которые нуждаются в деньгах ничуть не меньше, просто сохранили эту практику. Да и не так легко с нею теперь покончить: в условиях, когда ирригационные системы разрушены войной, многим крестьянам ничего другого не остается, кроме как разводить плантации мака. К вящей выгоде талибов вывозимый ими товар еще и убивает тех, кто за него платит.
Разумеется, этот вид смерти придумали для себя сами жертвы. Увлечение наркотиками в молодежной среде инициировала “студенческая революция” 68-го года, выпустившая на свободу лукавого демона, который, приникнув к уху юного “протестанта”, стал нашептывать ему No future и, приникнув к другому уху, — “Пользуйся тем, что есть здесь и сейчас и не отказывай себе в удовольствии «отключиться»”.
Чтобы загнать демона обратно в темницу, в которой он пребывал, надо, очевидно, восстановить доверие к Future. Но вдруг этого не сделаешь. А тут — вопрос вроде бы решен. “Афганец” ведь приносит не только дурман, но и лекарство от дурмана. Ваххабиты употребление наркотиков в своей среде запрещают строжайше (у талибов за одно это делают “секир-башка”), но главное, что таков их менталитет и весь строй жизни, что они абсолютно исключают увлечения подобного рода.
Кстати, для русских соблазн “правильной жизни” не нов: в ХVII веке он увлек не худшую часть населения в леса, а иных принудил войти в “купель огненную”. Возможна некоторая аналогия между ваххабизмом и нашим старообрядчеством, ныне почти уже истощившимся. В обоих случаях имеет место попытка защищаться от порченого и, как считается, погибающего мира, укрывшись в жестко организованный и благообразный по видимости быт, в отрыве от исторической почвы и в стороне от вселенских путей-дорог, в обоих случаях вера соседствует с изуверством и одержимость с педантизмом. Конечно, религии разные, но так ли уж это важно, если упор делается на религиозный закон, на крепость быта?1 Закон у христиан и мусульман в принципе один — тот, что “дан чрез Моисея” (Иоанн, 1:17). Удивительно ли, что к ваххабитам идут и русские. И, наверное, пойдут гуще, если сеть ваххабитских общин будет расползаться по России.2
1 Есть исторический прецедент, подтверждающий приведенное соображение. Я имею в виду факт возникновения в 1862 году так называемого “Ваисова Божьего полка”, сочетавшего элементы ваххабизма, с которыми основатель секты казанский татарин Бахауддин Ваисов познакомился в Мекке во время хаджа, с некоторыми элементами русского старообрядчества, а также толстовства. Ваисовское движение существовало еще в первые годы советской власти.
2 Нечто родственное ваххабизму можно найти и в наших интеллектуальных традициях. Так, упор на священный быт, в отрыве от истории, не чужд был К. Н. Леонтьеву, хотя уловим он в его сочинениях, как отметил о. Сергий Булгаков, чисто музыкально — не столько в тонах, сколько в обертонах. “Искупление и преображение твари, — пишет Булгаков, — подменяется здесь мусульманским представлением о всесильном Аллахе, творящем новые миры”. (Константин Леонтьев: pro et contra. Т. I. СПб., 1995. С. 387). Вопрос о смысле истории, таким образом, утрачивает значение.
Ибо слишком силен ныне рационально-утилитарный дух: слепой или подслеповатый ко всему таинственному, что светится в христианстве (и что исламу, в суфийском его понимании, тоже совсем не чуждо), он и в религии ищет того, что ему по росту.
Каковы бы они ни были по своему национальному составу, ваххабитские общины останутся чужеродным телом в рамках российского государства. Это в лучшем случае. В худшем они будут не только защищаться, но и нападать. О чем мы уже знаем по опыту. Просуществовавшие несколько лет в Дагестане две ваххабитские республики-невелички, Карамахи и Чабанмахи, приготовились не только защищаться до последнего патрона, но и совершить, при первом удобном случае, поход на Махачкалу, а может быть, и дальше. Даже для таких микрообразований императив джихада сохраняет силу: ощущая за собою поддержку всех исламистов мира, они в любой момент могут посчитать велением Аллаха, “придти на помощь” братьям-мусульманам, там, где они есть. А где их сейчас нет?
Военный аспект вероятного противоборства с ваххабизмом прогнозировать особенно трудно. Пока что можно лишь констатировать, сколь заметно изменилось соотношение сил между нашей страной и южными соседями. СССР был велик и страшен, как птица Рух, что кормит своих птенцов слонами; достойных противников он видел только на западе, а всякую мелкоту в южной стороне готовился расклевать как бы между прочим. Так было, по крайней мере, до афганской войны. Сейчас положение совсем другое. В считаные годы наша страна “просела” до статуса фактически второстепенной державы, а южные соседи, наоборот, наливаются и свежей кровью, и новыми энергиями.
По уровню развития военных технологий мы, надо надеяться, еще долго будем впереди. Но потенциальный противник, как показывает опыт, владеет не только тем оружием, что производит сам, но и тем, что производят в развитых странах. А оружие “нового поколения” таково, что предвидеть характер будущих (увы, неизбежных) войн становится совершенно головоломной задачей. Скорее всего, они будут напоминать партизанские войны, только интенсивность их, в сравнении с известными нам войнами такого рода, будет на порядок выше; притом, как считают эксперты, в основном они будут вестись в условиях городских застроек. Отсюда следует, во-первых, что в известной мере стирается разница в характере военных действий, которые ведутся против внешнего противника и противника внутреннего. То есть можно вообразить большую потасовку, которая ведется где-нибудь на берегах Вахша, но не имеет четко очерченного фронта и распространяется далеко к северу — не будем пока уточнять, куда именно.
Во-вторых и в главных, отсюда следует, что каждому солдату все чаще придется действовать в одиночку — встроенное в шлем переговорное устройство, когда вообще таковое появится у всех и каждого, лишь отчасти сможет компенсировать недостающее чувство локтя. И, значит, дух войска будет иметь еще большее значение, чем прежде. А в этой части, не будем лукавить, преимущество нынче на противной стороне.1
1
А. Проханов, в котором художник иногда оказывается сильнее идеолога, в романе “Сон о Кабуле” (“Наш современник”, 2000, №№ З—6) следующим образом живописует толпу, сбитую воедино криком “Аллах акбар!”: “Ее нельзя было победить, нельзя было расстрелять, нельзя было раздвинуть стальной махиной танка. Как нельзя было расстрелять звук, или прозрачную тень, или бездонное небо, в котором существовал всеведущий и вездесущий заступник, чье божественное имя они выкликали и славили, кто даровал им жизнь вечную, земное бесстрашие и небесную благодать”. Признание, однако. И определенная зависть. И едва ли не сожаление, что русские не мусульмане.Чем вдохновимся в противостоянии ваххабизму, что будем защищать? Очень нелегкий вопрос. Родину? Увы, когда русифицированный татарин Равиль Бухараев пишет, что “страшнее родины у российского человека отродясь ничего не было”, приходится признать, что в этом есть некая сермяжная (пусть даже только частичная) правда, которую все чувствуют, хотя не все решаются артикулировать. Защищать “своих”? Довольно расплывчатое понятие; особенно если учесть, что “свои” сильно различаются не только в национальном, но и в конфессиональном отношении. Кстати, новые (старые) хозяева жизни, тщательно оберегающие собственных детей от службы в армии, — тоже “свои”? Уверен, что далеко не каждым солдатом и офицером они воспринимаются как таковые.
Защищать цивилизацию? Пожалуй, так, но надо учитывать, что этот аргумент сильно хромает, ибо, к сожалению, сильно хромает нынче сама цивилизация.
Наверное, правильный ответ должен быть таков: защищать следует “вечную” Россию, что существует как бы поверх нынешней, пребывающей в растрепанных чувствах и не собравшейся с мыслями (“Прошлое страстно глядится в грядущее, // Нет настоящего, жалкого нет” — это будто впрок сказано, специально для нас), но какими-то своими чертами реально присутствует в ней и ее людях — от “первого лица” до бомжа.
И как раз волна наступающего исламизма должна помочь нам собраться с мыслями. Любопытно, что уже в Афганистане советские, а точнее русские, сначала робко, а потом все более уверенно стали идентифицировать себя, как “христиане” (см. об этом, в частности, воспоминания генерала армии Майорова) — столкнувшись с фактом, что в этой стране ислам глубже “сидит” в душах, нежели политические, партийные или какие-то иные пристрастия и предпочтения. Сейчас нет никаких внешних препятствий к тому, чтобы процесс национального самоопределения шел более интенсивно и с учетом всех вызовов, откуда бы они ни исходили.
И должно быть обновление имперских задач, которые с распадом СССР никуда не исчезли. Россия ведь не просто христианская (по своим корням) страна, но христианско-мусульманская; это, естественно, создает для нас кое-какие трудности, но одновременно дает некий козырь в той “большой игре” (если употребить традиционное клише), о которой идет речь. Я только что говорил о ее военном аспекте, но прежде чем дело доходит до прямого столкновения с ваххабизмом, надо стараться предотвратить его распространение. Что вполне возможно в рамках самого ислама. Ничего не надо выдумывать — надо лишь активизировать его великое наследие, все религиозно-культурное богатство, накопленное за четырнадцать веков мусульманами, в частности на территории бывшей Российской империи. Я имею в виду в первую очередь суфизм. В русле суфизма становятся невозможными упрощенные толкования Корана, искажающие его смысл и, следовательно, объективно враждебные самому исламу, какими бы “происламскими” они ни выглядели в интенции.
В то же время надо учитывать, что мусульмане в России дышат тем же воздухом, что и все остальные. То есть духовный контекст для всех един. А это значит, что и от немусульман в определенной степени зависит, в каком направлении будет развиваться ислам в России.