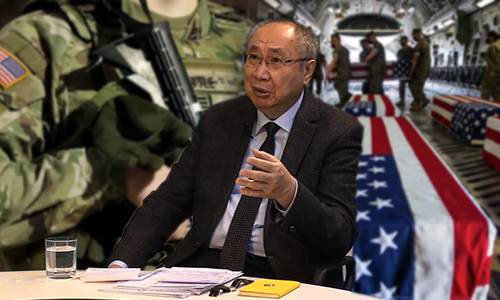Странный оказался поезд – тесный, жёсткий, как трамвай, в салоне было темным-темно, и за окнами ни зги, а пассажиров полна горница, правда, я их не видел, но они на меня смотрели во все глаза, я чувствовал. Сидел возле распахнутых дверей, из-под колёсных пар сыпались искры, они бликами освещали насыпь, и было видно, что вагон тащится еле-еле, с пешеходной скоростью, это позволяло выскочить наружу, справить малую нужду и без спешки вернуться на своё место, на ходу застёгивая гульфик.
Трое, кажется, на это решились и выстроились у дверей. Их лиц я не видел, но узнал всех: первый был мой старинный приятель, Войскобойников, мы с ним разругались триста лет назад по пустяку и более не виделись. Сейчас он притворялся барышней, которая для смеху надела юнкерскую шинель и густо испачкала лицо тушью, блестели лишь зубы да глаза. Две другие фигуры тоже были женские, но уже совсем траченные временем: одна принадлежала той, с которой у меня так и не случился краткосрочный и мучительный роман, а другая была моя одноклассница по фамилии Мулинэ.

Поезд въехал в ночной город, я спрыгнул на ходу и направился домой по тёмным дворам, где стояли печальные двухэтажные дома с обвалившейся охристой краской и трупными пятнами сохлой штукатурки. Напротив домов тянулась вереница сараев, и я знал, что через десять шагов появится на грязной кирпичной стене намалёванное масляной краской слово «хлебутин», которое давно удручало меня своей бессмыслицей. Но голос моей одноклассницы Мулинэ ясно и звучно произнёс мне в самое ухо: «Ты не там ставишь ударение. Это Хлебутин, это его сарайка. Хочешь ему позвонить? Видишь, тополь стоит на пустыре? Там телефон повесили».
Сараи кончились, открылся пустырь, заросший бурьяном и цикорием. Я подошёл к тополю и увидел прикрученный к стволу древний дисковый аппарат, который вдруг нестерпимо громко взвизгнул в самое сердце, и я снял трубку.
— Сыночка, здравствуй! – услышал я свежий и бодрый голос матери. – Ты нашёл Хлебутина?
— Ма, мы же договаривались, что ты не будешь звать меня «сыночка». И «Вовчиком» тоже. И не нужно говорить «хлебушек», «молочко», «мяско», «сахарок», «супчик», «картошечка». Я с ума схожу от этих словечек! И вообще, откуда ты звонишь?
Но трубка умолкла. Я вдруг заметил, что она не связана с корпусом шнуром и положил её зачем-то в карман. Тут послышался странный шорох и глухой шум. Я оглянулся и увидел, что ко мне приближается огромное стадо каких-то животных. Это были ослы. Не обычные, а дикие, которых, кажется, зовут куланами. Сейчас затопчут, подумал я, но с места не двинулся, оцепенев. Они пролетели мимо, огибая меня, обдавая едким жаром, запахом шерсти, ёкая селезёнкой и фыркая. Ладные, мускулистые, с шелковистым оттенком, они мчались, мягко топоча, и не было им ни конца, ни края. Трубка в кармане булькнула и спела древний рингтон. Я поднёс её к уху.
— Алё, гараж! Это Хлебутин звонит. Из Бохума. Это Вестфалия на Северном Рейне, понял? Там крематорий есть. Скажи, шикарное же название, а? Как будто труба выдыхает дым, да же? Бо-хум. Тебя тут Путин ждёт, приезжай тем же поездом. Стюардессе скажи, что ты от Хлебутина, только не смотри на её ноги, потому что их черви сожрали, остались кости. Крышку гроба продавило землёй в ногах, и черви туда залезли. Да! И денег мне положь на телефон, как брата прошу!
Последнюю фразу он произнёс голосом моего бывшего приятеля с фамилией Войскобойников.
Повинуясь этому бреду, я пробрался меж домов и вышел через калитку на улицу имени Масанло. Но никакого поезда не было. Улицы тоже. Я увидел ярко-синее, почти васильковое небо с оранжевым леденцом солнца, и землю, покрытую ультрамариновым газоном, из которого торчали мощные стволы пластиковых пальм. Там, где стояло здание Политеха, висела огромная линза океана, она была неподвижна, но дышала прибоем. Я побрёл туда, надеясь обнаружить пляж.
Но никакого пляжа не было, пластиковый газон подступал прямо к воде, которая стояла, как замороженная, и походила на туго натянутую ткань купоросового цвета. По ней бродили крошечные куланы, ростом с мышку, они своими копытцами пытались её пробить, но ткань не прогибалась, не фалдила и не морщинила. Осликов было несметно много, они покрывали гладь до самого горизонта и возились так, что в глазах рябило, и казалось, неподвижное море в глубине кипит.
И кто-то сзади окатил меня тёплой, как свежая урина, мерзостью, которая зашипела, стала пеной и тут же засохла. Отколупывая её куски с глаз, я оглянулся. Передо мной стоял некто в белой сорочке и чёрных брюках, на голове у него было пластиковое ведро с нарисованными глазами и оскалившимися в хохоте крупными зубами.
— Ты кто, Путин? – спросил я, удивляясь своему запанибратскому тону. Тот вздохнул, присел на газон и стал заворачивать концы брюк. И глухо ответил из-под ведра деланным кавказским говорком: «Путин, Шмутин, Хлебутин – какой твой разница, своличшь? Видишь, нога стал совсем плохой, червяк его съёл». И стал зверски расчёсывать свои голени, на которых не было ни кожи, ни мяса, но лишь белые кости, покрытые курчавыми волосками. «Сам ты сволочь, сволочь, Войскобойников! – закричал я. – Как ты меня достал своими тупыми приколами!»
Но никакого Войскобойникова уже не было, а вокруг простиралась знойная пустыня, я побрёл по ней и стал вязнуть в горячем песке сначала по пояс, потом по грудь, и тогда я поплыл и вдруг понял, что это вовсе не песок, а льняное семя, в котором можно легко утонуть. И, набравши в грудь знойного воздуха, нырнул, и колом пошёл вниз, а льняное семя под моей тяжестью сладостно расступалось с журчащим шорохом.
Я достиг дна и оказался в тёмном дворе рядом с тополем, к стволу которого был прикручен дисковый телефон. Вынул из кармана нагретую трубку, отряхнул её от налипшего мусора и повесил на место. Сверху раздался старушечий шамкающий голос: «Ну, наконеш-то! Явилшя, не запылилшя. Любовнищек…». Я поднял голову и увидел ту, с которой не случился когда-то мучительный и бессмысленный роман. Она сидела в расселине ствола и болтала голыми, очень красивыми ногами, но вместо лица имела тёмное пятно, похожее на кляксу. «Иди уж, — пропела она сладко и чисто. – Заждались там тебя. Хлебутин только что умер. А этих я постерегу, так и быть». Она повела вокруг девичьей рукой, указывая на ветки, по которым сновали туда-сюда сотни тысяч крохотных, как тараканы, осликов, и дерево от этой суеты тряслось, будто в лихорадке. Я протянул ей мятый, жеванный, рваный, липкий советский рубль и попросил: «Положи эти деньги на баланс Путина, пожалуйста». Но шамкающая красавица исчезла вместе с тополем и осликами.
И я поплёлся к дому, в котором жил когда-то. Под козырьком подъезда горела оправленная в жестяной воротничок лампочка, на скамейке сидели мои бывшие соседи: Анна Ивановна Хурумова с поджатыми губами и ниткой поддельного янтаря между зобом и туловом, а также супружеская пара по фамилии Гладуны. Иван Пантелеевич и Тамара Иосифовна, которая, увидев меня, улыбнулась и сняла с головы рыжий парик, обнажив полностью облысевшую голову. Окна в доме ярко светились — кроме моей бывшей квартиры, там было черным-черно. К стволу старого карагача, росшего рядом со скамейкой, была прислонена крышка дешёвого гроба, обитая красным снаружи. Пахло свежими стружками.
— Что, Хлебутин умер? – спросил я, но не получил ответа. – А когда похороны?
Всё молчали, лишь Иван Пантелеевич чуть поёрзал и достал из-под себя металлический квадрат и стал прилепливать к нему магнитные буквы, которые доставал из кармана пижамы. Это была доска для титров, он когда-то учил меня любительской киносъёмке. Закончив работу, он вытянул перед собою доску, на которой неровно было выложено:
в пятницу, 13го
***
Тьфу. Приснится же иногда такая чертовщина.
День наваливался. И нужно было как-то его прожить. Первым делом, по привычке, включил «Евроньюс».
И началось.
***
© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.