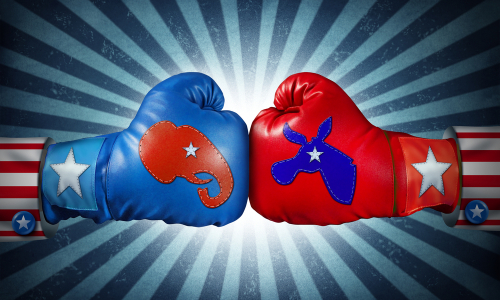1
Мой словарный запас подобен боекомплекту, годному в мирное время для салютов; на войне он молниеносно иссякает, а стволы теряют молодцеватую эректильность и постыдно сникают, нюхая землю, изрытую многопудьем артиллерийских лафетов.
Мне нечем кричать и разговаривать о войне. Матюки, которыми её следует гвоздить, похожи на снарядные гильзы с давно выгоревшим порохом. Из них разве что коптилку заплющить, чтобы в полутьме подвала нацарапать предсмертную записку: «В гибели моей прошу винить (пи), шоб ему пусто было». Пи — в данном случае — застенчивый звуковой сигнал, глушащий заветное матерное слово.
Мои лингвистические угодья стали минными полями, а заводы по выпариванию смыслов измахратили варвары. Они испражняются в тиши моих библиотек и подтирают свои прыщавые афедроны страницами, вырванными из толстовских томов.
Эпическая пошлость изречения à la guerre, comme à la guerre соперничает с исчерпывающей точностью этого высказывания, что бесит до белого каления, до точки плавления свинца, которым залили глотку.
…Ближе к полуночи, после часового дрочилова «подъём-отбой», после дедушкиной песни про «масло съели — день прошёл», сержанты уходили к поварам жарить картошку и пить водку, но рота, отдышавшись, тоже не сразу засыпала, предаваясь воспоминаниям о домашних пирожках — армейский ужин давно был пущен с ветрами. От иных рассказиков про кулебяки да шанежки животики сводило, и тогда кто-нибудь голосистый рявкал на всю казарму: эу, воины, чо забыли? — о мандé ни слова! И все стихали, проваливаясь в крепкий, но тревожный дрых бритых наголо новобранцев.
Такой был неписанный уговор. Впрочем, в тощее, карантинно-рекрутское время девьи губы, что большие, что малые, что срамные, никому и не снились. Только пирожки…
Так и сегодня: о войне ни слова.
2
Тогда, может, про кино?
Поехали.
Из бархатной темноты экрана проступает:
DAU
Так называется широковещательное и многошумное кино, которое мало кто досмотрел до конца. Из 700 часов отснятого материала смонтировано и предъявлено публике 14 фильмов, каждый из которых бьёт зрителя по голове дубовой киянкой, — так делали полевые хирурги перед тем, как отпилить раненому бойцу ногу или руку. Средневековый рауш-наркоз.
Это марафонское кинозрелище рассказывает о жизни великого учёного.
Кто не знает Льва Давидовича Ландау, лауреата трёх Сталинских премий, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, лауреата Нобелевской премии по физике?
С глубоким прискорбием допускаю, что найдутся люди, которым имя сие неведомо. Но усердный просмотр 14 серий ДАУ (так при жизни называли гения все окружающие) их дремучего невежества не развеет.
Это не фильм-портрет, не фильм-биография, не кинороман, не драма, не детектив, не трагедия, не комедия, не сериал, не мелодрама, не мыльная опера, не героический эпос, не трэш, не porno, не horror, даже не Art house. Но в этом проекте присутствует решительно всё перечисленное, плюс ещё сорок бочек арестантов в 14 вагонах, у каждого из которых есть маленькая тележка, где сидит, вертухайски ухмыляясь, режиссёр-изобретатель сего невиданного шоу — Илья Хржановский.
Сравнительно молодой человек, внешне смахивающий на Harry Potter и Андрея Романовича Чикатило, — как остроумно подметил один из рецензентов.
3
Всякий, кто отважится посмотреть это кино, через 10 минут воскликнет: да это вообще не кино! Сапоги всмятку, жареный лёд, каменная вата, бессмысленная заумь.
И будет прав.
Казна-що, как говорят украинцы. Фигня на солидоле, тягомотина и тощища.
Место действия — некий академический Институт физических проблем. Действующие лица — его сотрудники. Товарищи учёные, доценты с кандидатами, академики, профессоры, член-корры, корры и прочие кореша. Время действия — 30-60 годы, ну, примерно.
Ни хрена не видно, половины слов не слышно, а говорят много-много, тупо-тупо, ни о чём. Курят, как паровозы, постоянно буха́ют, ржут, выступают на идиотских собраниях, пуская бешеную пену идейности, устраивают научную беспредельщину в лабораториях, распускают сопли на гэбэшных допросах, кляузничают, строчат доносы, бренчат гитарами, матерятся в голос, хамят, таскаются по закоулкам, тискаются по углам, при этом то и дело сношаются. Не трахаются, не порются, не дрючатся, не кувыркаются, не пендюрятся, не трутся, не совокупляются, а именно — сношаются. Угрюмо, воровато, судорожно, но по правде, по чесноку — с каплями спермы, стекающими по ягодицам наспех отодранных баб, которые делятся на дам и не дам.
«Твою же мать! — воскликнет порядочный кинозритель. — А когда они свои научные открытия делают? Срамотища! И это наши учёные, в говне толчёные?».
4
Точно так же считают сотрудники 1 отдела этого академического Института. То есть гэбисты. Они яростно борются со всей этой антисоветской нечистью, выжигают её напалмом, посыпают хлоркой и дустом, топят в серной кислоте, заливают уксусом и желчью благородной ярости, которая вскипает, как волна.
Способов у них много. Они же профи.
Можно вызвать на допрос шалавую буфетчицу, которая сдуру дала заезжему ино́стру, раздеть её догола, врезать по морде, напоить коньяком и заставить саму себя изнасиловать горлышком бутылки. Глубже, сука! Ритмичнее! Когда профессору давала, хорошо тебе было? После этого она подпишет любые бумажки и станет добровольной помощницей органов. Ещё и кокетничать начнёт, намекая следаку, что он — ого-го какой мущина, и она без колебаний раздвинет ноги, чтобы принять в себя его дубовый энкаведешный орган.
Можно приличного человека, который наотрез откажется сотрудничать, запугать до икоты, настучав ему по носатой роже, не жалко, ишь, тварь, не хочет помогать Советской власти, наверняка лыжи в Израи́ль уже смазал, с-сучара.
А кроличьи похотливого директора Института, неутомимо пердолющего своих буферастых секретарш, подстеречь на живца, снять поздно вечером в рабочем кабинете с очередной бабы и заставить уйти по собственному, тут же усадив в его кресло гэбэшного генерала, который дело туго знает.
А молодую девчонку-библиотекаршу, застуканную за лесбийскими шалостями, просто повесить на электрическом шнуре — ну, вроде как со стыда сама удавилась, щучка.
А в оконцовке, как говорят простоватые советские парни, оборотившиеся стальными чекистами, всю эту мразотную интеллигенцию тупо перерезать. Буквально. Как свиней.
А год, какой был год тогда? Ах, да, всегда.
Стоял январь, не то февраль, какой-то чёртовый зимарь, когда слезливые оттепели и ледяные сопли по очереди лезут из ноздрей, сменяя друг друга, как часовые, и на сторожевую вышку заступают волки позорные в овчинных тулупах, и каждый из них приказывает считать себя Дедом Морозом, обещая позвать Снегурочку, которая покажет всем Кузькину мать.
Блять.
Здравствуй, жопа, Новый год.
5
А что же Ландау, герой труда и нобелевский лауреат?
Ау, Дау!
Спокуха, он здесь, вместе со всеми этими похотливыми чудиками, пьющими, курящими, ликующими и праздноболтающими, но всегда где-то с краю, не в центре кадра, а сбоку-припёку. Он бесконечно и невнятно бухтит, не скрывая диковинного акцента — роль его исполнят Теодор Курентзис, знаменитый российский музыкант греческого происхождения, и это тот редкий случай, когда модель и образ смешались в одном флаконе с взрывоопасной достоверностью молотовского нитроглицерина.
Вдова подлинного Ландау, Конкордия Дробанцева, Кора, оставила книгу воспоминаний — от этой печки и плясал Илья Хржановский, затевая свой безумный проект. Чего греха таить, Лев Давидович человеком был своеобразным. Сочетаясь законным браком, он счёл необходимым заключить с женой некий «пакт», позволяющий ему неслыханную половую свободу, где понятие «супружеская неверность» просто аннулировано. Он приводил любовниц домой и не возражал, если бы Кора отвечала тем же. Но она этого не делала. Любишь гения, терпи и его причуды.
Всё это есть в фильме. И выглядит мерзко, пошло грязно, натужно, недужно, никому не нужно и прежде всего — самому Ландау.
Эпизода с аварией, искалечившей гения, в фильме нет, но есть беспомощный, полупарализованный старик, возлежащий на ложе, как мавзолее, в костюме, на лацкане которого сверкает звезда Героя Соцтруда, а вокруг то пионеры, поющие песни, то молодые физики, толкующие о науке, то притворно бодрые сотрудники, а Дау молчит, законопаченный немотой, его глаза слезятся, и он лишь изредка кивает невпопад, а лопочет за него Кора, и это реально страшно.
6
Но это всё так, печки-лавочки, кино-вино-домино.
Обстоятельства, в которых зачинался этот монструозный фильм, заслуживают отдельного повествования.
Первые кадры были отсняты где-то в 2008 году. Уже облетела планету ударная волна ипотечного кризиса, уже случилась российско-грузинская война, но, в общем, ничего, жить можно: цены на нефть бодрые, а «Старые песни о главном» ещё не осточертели.
Был выстроен колоссальный макет Института, причём, не из дсп, а капитальный, площадью 12 с половиной тысяч квадратных метров — невиданная в Европе съёмочная площадка. Настоящие актёры в проект не допускались, в основном — статисты и типажи.
Персонажи фильма в нём жили круглые сутки, рабочий день длился 15 часов. Они расплачивались советскими рублями, отовариваясь в лавках, где торчали советские весы, напоминающие грудную мишень для стрельбы, на полках строились пирамиды банок со сгущёнкой, килькой в томате, бычками, шпротами, за пузатыми плексигласовыми витринами таилась, свернувшись, как беременная кошка, докторская колбаса, а сырокопчёная, сморщенная и твёрдая, как хрен моржовый, лежала рядом по стойке смирно под сенью гигантских кубов сливочного масла, которое мягко кромсали тесаком величиной с гладиаторский меч, упаковывая жёлтые бруски в пергаментную бумагу. В ассортименте имелись: «Беломор», «Казбек», «Прима», коньяк «Арагви», козырные папиросы «Герцеговина флор», «Советское шампанское», портвейн 777, кубинский ром, моршанская махорка, а также простая, как мычание, водка с жестяной косичкой; имелись также исполинские конусы с томатным, яблочным и виноградным соком, конфеты «Спорт» и даже презервативы были те самые, №2, изготовленные на Баковском заводе резиновых изделий, а чай подавался в подстаканниках, и сахарного песку было вдоволь, как в Сахаре.
Алё, кинщик, заряжай следующую часть!
DAU
Буфетчицы щеголяют рафинадными передничками, кружевными воротничками, кокетливыми менингитками и шиньонами с душком могильной плесени. Взрослые мужчины носят мешковатые пиджаки с подбитыми ватой плечами, с чудовищными лацканами и галстуками диких расцветок, их скороходовские шузы безукоризненно тупоносы, а широкие штанины держатся на узеньких помочах, ремешки которых врезаются в бычьи шеи и дюжие плечи.
Под сиротскими кофточками и платюшками дам и не дам таится замысловатое женское бельё, скорее, обмундирование или даже сбруя: шуршащие, как змеиная кожа, комбинации, великопостные подъюбники, пуленепробиваемые бюстгальтеры, чулки, скреплённые с поясом специальными застёжками, а меховую опушку лобков прикрывают обширные, как туристическая палатка, труселя, от вида которых может случиться пожизненный нестояк.
И едкий запах подмышек смешивается с табачным перегаром с добавкой кариесной гнильцы, с ванильной отдушкой талька и сырным ароматом несвежих, почти стоячих носков.
Боже праведный, как уныл, как мерзок, как постыден вид совокупляющихся особей — немолодых, неумных, некрасивых, несчастных людишек, сдобривших эту раскочегаренную тестостероном и вином обезьянью похоть выдуманным словом любовь.
Гэбистские патрули круглосуточно слоняются по внутреннему двору в диагоналевых галифе, юфтевых сапогах, горящих, как у кота яйца, их бо́шки увенчаны фуражками с приплюснутой тульей, а из-под широкого козырька тускло отсвечивают оловянные гляделки, рыскающие окрест в поисках врагов и шпиёнов.
Их угрюмые начальнички рассекают по периметру, густо пованивая «Шипром», в габардиновых регланах и сверкающих хромачах, глядя в которые можно выскоблить вертухайскую рожу опасной бритвой Жиллет.
Всё здесь настоящее и аутентичное — и неподъёмная, тупорылая мебель, клеймённая фиолетовыми печатями инвентаризации, и ненадёжные стулья с дерматиновой сидушкой, и замызганные половички, и плешивые ковровые дорожки, и тяжко свисающие полукружия обкомовских штор, и клейстерные обои с гигантскими розами, и самшитовые буфеты, годящиеся на гробы, и книжные полки с дебильными слониками на счастье, и салфетки, вышитые болгарским крестиком, и подушечки, плотно утыканные иголочками, и раскладушки, лязгающие алюминиевыми сочленениями, и скользкие кожаные диваны, усложняющие судороги совокупляющихся организмов, и письменные приборы с парными чернильцами и деревянными ручками с раздвоенным пёрышком № 35, и пудовые пресс-папье, и дюралевые портсигары, начальственно цыкающие замочком, и фанерно накрахмаленные перины, утолканные вонючим куриным пухом, и дырявые пододеяльники, пошитые для парусного флота — таков этот герметичный, концентрированый, нашпигованный кричащими деталями быт, создающий чудовищно токсичную среду, несовместимую с человеческой жизнью.
7
Ещё раз: здесь нет артистов, играющих кого-то. Гэбисты, физики, лирики, официантки, водилы, вертухаи, кандидаты, доценты, забугорные профессоры, наглые, вечно пьяные повара, чокнутые садисты, пьяницы, наркоши, студенты, пионеры, шлюхи — все настоящие, просто бывшие, б/ушные. Даже младенцы, мшистые головки которых опутывают зачем-то паутиной энцефалографов, тоже подлинные.
Потому и спирает дыхание, когда смотришь на брейгелевские физиономии персонажей этого чокнутого фильма—они не отсортированы кинопробами, они такие, какие есть, и таких обычно не снимают в кино. У них нет сценария, они импровизируют в заданных обстоятельствах, поэтому их монологи и диалоги томительно косноязычны, бестолковы, истеричны, сквернословны. Это последние, которые стали первыми. Это массовка, ворвавшаяся на авансцену, на крупный план, потеснив героев за кулисы, на периферию, где и слоняется озабоченный, никому не нужный Ландау, придавленный гигантской толщей мутной воды с её чрезмерным, адским давлением, ищущий на дне свою маленькую полянку свободы, пусть сексуальной, дурно пахнущей, но других делянок у него нет. И ни у кого нет. Но ему можно, ему простят, он гений, он три Сталинские премии за бомбу получил, а другим нельзя.
А других до́лжно резать или стричь. Забривать, униформировать в солдаты и гнать — на БАМ, в Афган, на целину, на передовую, куда угодно, куда попало — а куда их ещё девать?
Я долго, мучительно, с перерывами жевал это блевотное действо, подавляя тошноту и маясь тошным вопросом: зачем оно?
Есть такая байка: на конкурсе поросячьего визга проиграл вчистую тот, который спрятал под одеждой живого поросёнка и крутил ему ухо. Совсем непохоже, сказали ему.
На Берлинале 2020 Серебряного медведя дали Юргену Юргесу, оператору ДАУ.
А нет там никакой операторской работы. Ни тщательно выстроенного света, ни традиционных «восьмёрок», ни чередования ракурсов и планов. И всё не в фокусе, и камера ручная, зыбкая, то есть, строго говоря, и камеры нет.
Там работает наш современный айфон-смартфон-мобильник, мистическим образом заброшенный в прошлое, где он порхает, как шпионский дрон, и снимает всё подряд. И сквозь возмущение, раздражение, сквозь ярость замученного зрителя проступает, как на просроченной фотобумаге, брошенной в кювету с прокисшим проявителем, убийственно простая догадка: это не призраки.
 «Токаев сменил участок, Назарбаев пожелал удачи: как прошёл референдум в Астане». «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента». «Перевод казахского языка на латиницу: между политикой и прагматизмом»
«Токаев сменил участок, Назарбаев пожелал удачи: как прошёл референдум в Астане». «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента». «Перевод казахского языка на латиницу: между политикой и прагматизмом»Это мы.
Здесь, сегодня, сейчас.
И последнее — last, but not least: вся эта эпическая бодяга снималась в Харькове. Совсем недавно. Считай, позавчера.
Когда съёмки закончились, весь этот грёбанный Институт показательно взорвали, а на развалинах устроили дискотеку.
Не помогло.
Может быть, нужно осторожнее обращаться с временем? Оно ведь никуда не уходит. Оно дремлет в укромном углу, в кладовке, в будке, где свисают с потолка гроздья синегнойной плесени.
Как говорится, не будите спящую собаку.
Она проснётся и взбесится.
Но мы договорились — о войне ни слова.
***
© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.