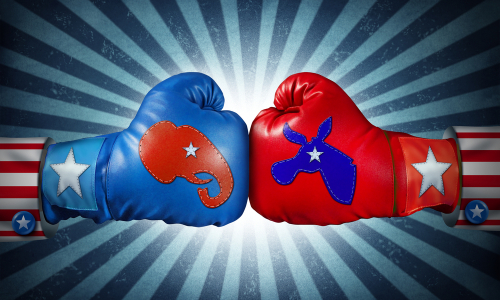1
Один знакомый френд отпостился в мордокниге пронзительным излиянием чувствительнейшего отечестволюбия. Сказал: хоть бейте, хоть режьте, а жить могу лишь на родине с большой буквы К. Я, говорит, два дня в Североамериканских штатах прокантовался, а на третий дотумкал, что эта заокеанская держава меня недостойна. Хавчик поганый. Хвалёный хамбургер в едальник не лезет, ещё и соусами изгваздаешься, как псина помойная. В сивушное бухло суют айсберги льда. Пиво дрянь. И вообще. То Трамп, то импичмент, то понос, то золотуха.
И в Европе, говорит, такая же байда. Потому бывшие фольксдойчи, не сподобившись стать густопсовыми бюргерами, табунами топают взад, окончательно свихнувшись — где историческая родина, а где доисторическая? Ибо раблезианские колбасища фатерлянда с их приторной горчичкой, напоминающей по виду младенческое кало, не выдержали спора с туго набитой кишкой казы, нанизанной на исполинское лошадиное ребро. И деликатно прыскающие берлинские вюрцхены, заляпанные охряной замазкой карри или менструальной сукровицей кетчупа, не заменили им чисто промытых овечьих потрошков, туго сплетённых в девичью косичку, уложенную по окружности табака величиной с кольцо Сатурна. В центре которого высится трепещущий холм, сложившийся из нежнейших лепестков кеспе, украшенный олимпийскими кольцами припущенного в сорпе лука и увенчанного смуглой башкой победоносного кошкара, забодавшего бледнолицую харю германской свиноматки с её дырявой пуговицей вместо шнобеля.
Он, разумеется, не столь кучеряво изъяснился, но я счёл возможным его высказывание расцветить.
Ответил ему. Рубанул правду в матку. Знаешь, сказал я, любая страна сама выбирает, кому в ней жить. И она никого не задерживает. Чемодан – аэропорт – родина. На любую букву алфавита, хоть «на ща». Он меня лайкнул и усмехнулся. Ну-ну. Нацарапай, бро, статейку. Или диссертацию.
Вот и царапаю. Дисер.
2
Принято считать, что человеки, свалившие за бугор, еженощно (днём некогда) корчатся от сладостных поллюций, созерцая в срамных снах покинутые гештальты: трепещущие осины, кудрявые берёзки, шелковистые ковыли – у кого что было. И цукерброт им не лезет в рот, и пастила нехороша.
Не спорю, встречаются и такие лирики. Недавно познакомился с земляком. Мало сказать, мы с ним теперь и родственники. А когда-то в одной школе учились, но я его не вспомнил, впрочем, взаимно. Ныне он доктор-анестезиолог. Живет на востоке Рейн-Вестфалии в опрятном городке неподалеку от Тевтобургского Леса, где двадцать веков назад Арминий порубал в требуху легионы Публия Корнелия Вара, который, как и подобает римлянину, покончил с собой, загнав в себя меч. Император Август, муж сдержанный, впал от этого известия в глухую тоску, зарос бородой, бился лохматой головой об косяк и кричал: «Вар! Верни легионы!». 35 тысяч воинов – не кот чихнул. Рим в этом сражении подавился Германией. Её зарейнские земли остались непокорёнными.
Но не об этом мы беседовали с анестезиологом в его уютном доме, где хозяйка, Наташа, тоже доктор, потчевала нас пельменями, и где из living room был выход на безупречный home garden, а в подвале калилась сауна с русскими вениками и сладострастно шипящей каменкой. И мы регулярно поддавали то пару, то водочки. «Ну, скажи, Володя, тебе снится наш Талды-Курган? – спрашивал он, всякий раз ожидая от меня сопель и вопель. – Правда же, классный городок, ты его помнишь?». А я по бычьи упрямо отвечал: знаешь, старик, «Талдык» смутно припоминаю, а «Курган» как-то заволокло. «Да? – растерянно тянул врач. – А меня накрыло. Снился каждую ночь. Не выдержал, съездил. И всё. Отпустило».
3
Ну, что поделать, я человек жестоковыйный. Не накрывало ни разу. Эта малая родина всегда казалась мне подпольной столицей всемирной тоски. Школы там были именные, а улицы безымянные – первая, третья, седьмая. Люди в городке обретались маленькие, жили они тихонько, оглядчиво, серенько, постненько. История местечка была куцая, как хвостик у приблудного щенка. Какая-то опереточная Гавриловка таяла у него за спиной, а далее — ни зги. Лишь густые тальниковые заросли обок мелководного, благодушно журчащего Каратала, кайфующего от томительного запаха джиды, бедной родственницы финика. Кому-то по душе такие райские кущи, но я человек городской, мне любы небоскрёбы, уличный гай, кряканье клаксонов, щекочущий ноздри бензиновый выхлоп и томительное амбре дамских духов, смешанное с благородным ядом гаванских сигар. Это всё трёп, конечно. Но, если по чесноку, то безнадежно плоские, бесплодные солончаки и такыры заштатной жизни удручали сосущей сердце скукой. Культура вообще центростремительна, она жирными сливками сгущается в царьградах, а вот окраинам достаётся тонкий слой липнущего к нёбу маргарина, который намазывают на полубелый за 16 коп. А дрожащим желатином изжогового мармелада латают прорехи саманных домов культуры.
Жизнь там вялая, выцветшая, выплаканная, как вдовьи очи.
Как бы это толком объяснить. Вот смотрел я в детстве взрослое кино. «Ещё раз про любовь». А там есть кадр: аэропорт и горы вдалеке. И проводница орёт в трубку – мы в Алма-Ате! Погода нелётная! Боже праведный. Невзрачная (тот же Талдык, но с горами) столица, в названии которой сидела квадрига по-московски акающих, краснощёких яблок, вдруг вошла в тугую плоть какой-то иной – большой, исполненной страстями жизни, пусть целлулоидной, чёрно-белой, но манящей и прекрасной — в ней стюардесса пела про солнечный зайчик, а её возлюбленного звали Электрон.
И это было громоподобно! А бывшую Гавриловку никто в кино не снимал. Но когда вышел фильм Шакена Айманова «Конец атамана», по городку пронесся слух, что вдова чекиста Чадьярова живёт у нас. Более того – в нашем дворе. Мне её показали. Это была болезненно худая и чрезвычайно скандальная апашка с браслетами, которые норовили соскочить с измождённых запястий. Говорили, что режиссёр приезжал к ней. Может, врали, но это было здорово!
Однако поводов для таких ликований находилось прискорбно мало. И не покидала досада, что тщедушное местечко никак не обозначено на карте генеральной, оставаясь малозаметным хуторком в степи. И я всегда знал, что уеду.
Уверен, что блеск и нищета столиц прирастают упёртой волей безнадежно периферийных пареньков, в жилах которых бродит, как божоле, пузырящаяся кровь прирождённых карьеристов. Они изо-всех сил карабкаются из болотистых марианских впадин, рискуя взорваться изнутри кессоновыми разрядами, и, выбравшись, очертело лезут, срывая ногти, ломая ноги, на свои монбланы, калечатся, гибнут, но кто-то добирается до вершин, где пусто, одиноко, безжизненно.
4
Я полагаю, что Назарбаев — один из тех швыдких хлопцев, вынырнувших из глубин придонного ила. Алма-Ата поначалу встретила его спесиво, рук для объятий не раскрыла, ещё и мазнула брезгливой ладошкой по щеке – гэть, деревенщина! Он закусил обиду и двинул огородами — через Украину, через Казахстанскую Магнитку. И в «оконцовке», как говорят на его малой родине, оседлал-таки своего «росинанта», а позже и «абсента», бликующего лоском, как чёрная членовозная «Чайка». Выпал ему шальной джекпот и беспримерный карт-бланш. И эта пара гнедых затащила его в историю, позволив кавалерийским нахрапом взять столицу со всеми её потрохами и по самые помидоры. Вволю натешившись, он бежал из неё, прихватив заплечный вещмешок, где слежались, как солдатские кальсоны, его подростковые видения. И в ссыльнокаторжной, продуваемой то стылыми сквозняками, то адским зноем степи, забабахал железобетонный мираж сбывшейся мечты, цементную фата-моргану, Tokal-Сity, странный и несколько китчевый памятник самому себе, имени самого себя. Это его диковинный трофей, бессмысленный и грандиозный.
Победы политиков чаще всего бывают пирровыми.
This is the capital of the republic of Kazakhstan!
Welcome!
Thanks.
Слуга покорный, но нет.
Я добровольный номад, жрущий жалкий хлеб изгнанья. Раньше было так: свалил — что помер, крышка. И берёзовая тоска была чем-то вроде приличествующего нытья. Но интернет схавал расстояния и не подавился. Всё стало рядом и видно, как в чашке Петри. Та же дичь в сгустившемся агаре (угаре) сплошной бестолочи. Какая там, к чёрту, ностальгия!
Не моё дело возиться в гнилом ливере издыхающего самовластья. Охотники и без меня найдутся. Просто имею со страной своего рождения чисто стилистические, как выразился Бродский, разногласия. С трудом выношу бесконечные опоздания, сокрушительную необязательность, чванливое высокомерие, липкое мздоимство, хамское вымогательство, оголтелое кидалово, бесхребетное лакейство, сумасшедшую бесхозяйственность, беспредельное разводилово, раздолбанные дороги, фальшак пафосных фасадов, вытоптанное и загаженное правовое поле, плебейское хвастовство изобильных пиров и меднолобое враньё политических банкротов, страдающих недержанием речи и злокачественной мегаломанией.
В общем, так, мелочи. Ничего нового. Всё это уже было в веках. Людей, конечно, жалко. Всех. Даже Назарбаева. Но особенно жаль приличных, толковых, умных, образованных, талантливых, ироничных, всё понимающих и оттого грустных. Их ещё немало. И они справятся. Или не справятся. Не мне им советовать, моё дело – сторона.
5
С болезненной ясностью сознаю, что частицей Германии я никогда не стану. Слишком велик и глубок ров, через который не перепрыгнуть. Надо полагать, пращуры мои чухнули из Дойчланда в Русланд не от хорошей жизни. Их достала Семилетняя война, бедность, голод, а тут бывшая гессенская принцесса стала императрицей этой гиперборейской страны, в которую их и заманила. Городок, откуда они рванули на Волгу, назывался Изенбурген, я там был, бир пил. В середине девяностых ещё. В кнайпе ко мне подсел вислоусый старичелло и сказал: «О, я знаю, что такое одинокое пиво в чужом городе». Выспросив мою фамилию, заявил торжественно — ты наш парень! Только в Гессене можно встретить фамилию Рерих! То есть Рёрих, так правильно. И добавил загадочно: «Ваш род из гугенотов…».
Столетия зашумели за моими плечами. Из гугенотов! А дед не унимался: «Ты думаешь, это было давно? Найн! Квач! 1766 год — это позавчера. Твои предки могли видеть Гёте, который стал в том году студентом ин Ляйпцихь. Гердера, который слушал лекции Иммануила Канта в Кёнигсберге. Ты хочешь приехать в Германию?». И я ответил – Найн. Квач. Я буду жить там, где родился. В Казахстане. «Где это?» – растерянно спросил старик
Хочешь рассмешить бога, поведай ему свои планы.
. . .
Вечером, когда выхожу с цигаркой на балкон, вижу, как в глубине придорожного леса вспыхивают прожекторы на долговязых фермах. Там стадион. Оттуда доносятся гортанные голоса немецких парней. «Халлё, Хайнрихь, вас махст ду етц, фердамте Хунд! Ихь бин дох хир! Шнеллер, либе Швайне, шнеллер! О, я-а! Уп-с! Найн, квач, форвертс! Форвертс! У-у-у! Вау! Вир хабен гевоннен! О-ла-ла!».
То ли футбол, то ли эхо прошедшей войны.
Конец дисера.
Ты доволен, бро?
***
© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.