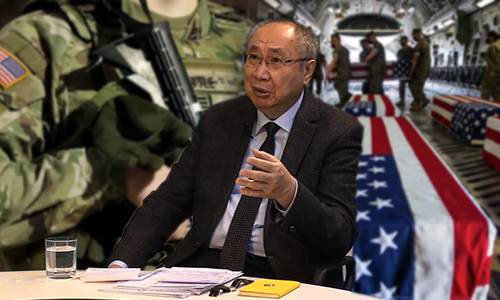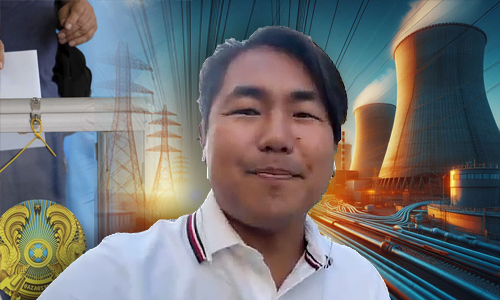1
Заштатный городишко наш, который я, вошедши в осмысленные лета, люто презирал за блеклость и бесславность, лежал вдалеке от турксибовской ветки, а потому достичь столицы можно было лишь автобусами. Они пыхтели, смердели бензиновым угаром и горелым маслом, на мукринский подъём вскарабкивались кое-как, предсмертно подвывая и самоварно закипая радиаторами. Это был мучительный, растянутый часов на восемь путь. Зимой и того дольше.
Случались остановки. В Чингельдах, к примеру, пили воду, она щедрым потоком изливалась из толстенной трубы и была чуть солона, но холодна, её нахваливали. Ещё была станция Или, там ели невыносимо вкусный шашлык и покупали копчёную рыбку с девичьим именем «маринка». Говорили, что голова её смертельно ядовита.
Однажды какой-то дядька, прикончив своё мясо, по кошачьи облизнулся, влажно поцыкал языком, выдирая из межзубья застрявшие кусочки, и вдруг сообщил сотрапезникам: «Вот, товарищи. Мы на дне!». Попутчики, чавкая и шмыгая, по бараньи уставились на него, и кто-то равнодушно спросил: «Эт как?». И дядька, обводя рукой окружающее пространство, торжествующе завершил сообщение: «А так! Здесь будет море. Кап…Капчаргарское, что ли. И мы щас стоим на его дне!».
2
Ежели автобус, ёжась, спросонок моргая фарами и отрыгивая сцеплением, трогался засветло, то в Алма-Ату он, измочаленный, вползал часам к трём пополудни, в самое мангальное пекло.
Остановиться нам с бабушкой было негде, поэтому ещё час добирались до альпийской станицы с круглозвучным именем Талгар. Виды были те ещё! Размашистый строй яблоневых рощ вдоль сверкающей липким гудроном дороги, выше курчавые холмы, бредущие многогорбым караваном, а дальше горы, бодающие синее небо сахарными головами. Сквозняки, прыгающие, как разбойники, в раскрытые окна, тревожили трепетавшие ноздри спиртовым настоем разнотравья, где одуряюще бесцеремонная черёмуховая струя смешивалась с крепким духом свежескошенного клевера, приправленного винной каплей апорта, только что с хрустом разломанного на две краснощёкие половинки.
Утром, выспавшись горным воздухом, напившись цейлонского чаю, сваренного из ледяной воды и сдобренного тяжёлой каплей топлёного молока, добытого в соседнем Кызыл-Гайрате, пускались в обратный путь, в Алма-Ату.
Еще не был построен и даже не задуман автовокзал с башенными часами — теперь его уже нет. Имелось что-то вроде ямской станции, где жались бок к боку ЛАЗики, ПАЗики и ЗИЛы с натруженными жилами. «Икарусы» ещё не родились. О «Мерседесах» никто не слыхивал. Зато по пригородным стёжкам-дорожкам шлындают последние «Коробочки», их двери открываются простецким рычагом, покорным шофёрской длани.
На этой коробчонке и приехали. «Станция Березай, хошь не хошь, а вылезай!».
Небо к полудню становилось выцветшим, как пододеяльник, вываренный в хлорном кипятке. На нём ярилось ослепительное пятно электросварки, от него впору ослепнуть. И отовсюду курился, прокрадываясь к ноздрям, невыносимо божественный шашлычный дух.
— Унд? – обречённо спрашивала моя Großmutter, обмахиваясь крошечным платочком. – Опят пойдём ф твой музеум?
Бедная моя Oma. Грузная, с больными ногами, скривившимися от веса, с большим животом, стянутым хирургическим корсетом, сдерживающим крупную, как младенческая головка, килу, она, то и дело отдуваясь, приговаривала: «Я вся мокрий, как мышь!». Но отказать мне не смела, покорно снося все мои причуды.
Топали пёхом. Мимо Зелёного базара, ещё очаровательно азиатского, без нелепых пирамид, позже оседлающих его кровлю. Потом до улицы Пушкина, где стояли две пушки, мои любимые подружки. Я оглаживал их боевые щитки, рылся в пустых казённиках, вынюхивая пороховой запашок, висел, раскачиваясь, на стволах, беспомощно перебирая руками и срываясь. Натешившись, тащил бабушку дальше, через Панфиловский парк, к Собору, который был тогда музеем. Он был, как мощный магнит, притягивающий железный заусенец. Я был пред ним козявка, пустяковый обсевок, едва вывалившийся из клоаки бытия, ещё тоскующий по вечности, которая исторгла его.
Собор был, говоря по-нынешнему, временны́м порталом, он вкрадчиво источал пряные ароматы бальзамированных эпох, дрыхнущих в своих саркофагах.
Там ютилось много занятнейшей всячины, но более всего зачаровывал прислонённый к стене гигантский, охристого оттенка блин — спил тянь-шаньской ели пятисаженного обхвата. Он казался мне циклопическим колесом боевой повозки давно вымерших курчавобородых великанов.
Недавно выяснил: это был спил гигантской ели Шренка, которую лесники Горельника срубили в 1911 году. Исполинский круг был отправлен из Верного в Петербург на Первую сельскохозяйственную и промышленную выставку, приуроченную к 300-летию Дома Романовых. Экспонат через годы вернулся уже в Алма-Ата (не склонялась) и был приписан к музею.
Его-то я и видел.
Где он нынче? Что с ним сталось?
На обратном пути я всё оглядывался на Собор. Он действительно парил над городом, как ошеломительная баркентина, уставленная невероятными фок, грот и бризань-мачтами с раскидистыми реями, стеньгами, бушпритами, косыми и прямыми парусами, сигнальными огнями и флажками — избыточно ярким, рождественским прикидом, который лихо натянула на себя хмельная, сбрендившая от радости тянь-шаньская ель, растущая до небес.
Собор не спорил с пятитысячными вершинами, но соответствовал им. Приземистая столица, густо залитая зелёнкой садов, парков и огородов, мирно сопела и горя не знала, безмятежно хрумкая райскими яблочками.
То есть за самый краешек я успел схватить тающий мираж той Алма-Аты, которая открылась когда-то автору «Хранителя древностей».
3
Впервые открыв этот роман, я впал в диковинное изумление, сродное déjà vu. Оно и сейчас возникает, когда перечитываю. Теперь понимаю: магниевые вспышки, осевшие на дне детской памяти, встретились с селевым потоком сокрушительной силы и, как ни странно, щемящей нежности.
Такова проза Юрия Осиповича Домбровского.

Что ему Алма-Ата, что он Алма-Ате? Бывший московский студент, сын юриста, внук сибирских золотопромышленников, правнук польских повстанцев, он оказался в недавно назначенной столице поневоле, с тавром ссыльного на упрямом лбу смутьяна и поэта. Сошедши с поезда ранним майским утром, он окинул взглядом окоём и остолбенел. И всё. Влюбился, как гимназист, как студент, как юнкер, как гусар. Как поэты лишь любить умеют. Его панегирик Алма-Ате это библейская Песнь Песней, больше сравнить не с чем.
Я бы заставлял филологических студентов заучивать первую главу «Хранителя» наизусть, откаллиграфив её от руки. Сделать такой текст больше никому никогда не удастся: Домбровский «прописал» Алма-Ату в мировой литературе – здесь происходит действие его главных романов. Первый назван, второй – «Факультет ненужных вещей».
Они написаны с дерзким размахом, рушащим все занудные правила тощего чистописания. О городе он рассказывает с восторгом влюблённого, о Соборе с учёностью архитектора, о музее с эрудицией историка, об алматинских предместьях с пылом зоркого натуралиста. И всплывают знакомые, привычные, замурзанные повседневностью названия, но в домбровском преображении они будто заново рождаются и звучат, как на полковом смотре: Горный гигант! Каменское плато! Малая станица!
Знай наших.
Таково свойство настоящей литературы. Её никогда не поймут ожиревшие паханы, норовящие изгадить все перекрёстки своими кичливыми погонялами и гипсовыми болванами – ветром пахнёт, и они обвалятся, а улицу Ташкентскую как ни перекрещивай, она при своём останется до дней последних донца! Только правильно будет – Ташкентская аллея. Потому что на всём её протяжении и по обе стороны несли свою рослую службу красивые, как кипарисы, и статные, как царственные эвкалипты, тополя.
Нынешние властолюбцы, умасленные тухлым туковым жиром, ничего вырастить не умеют, только пилят. Всё подряд.
Пошли вон, дураки! «И сказок о вас не расскажут, и песен о вас не споют».
Энциклопедическое многоголосье «Хранителя» не исключает событийных линий, их в романе две: фейковая «анаконда», ползающая в яблоневых садах Горного гиганта, и выдуманная столица «Римской Азии», будто бы спящая под прилавками алматинских предгорий. Вокруг этих сюжетов и заваривается почти детективная каша, сдобренная горклой брехнёй бездарных репортёров, бешеной слюной сбрендивших краеведов и потожировыми выделениями смердящих псов ОГПУ.
4
Наше ощущение тридцатых годов основано на скорбных показаниях очевидцев. Среди них Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Евгения Гинзбург, Владимир Буковский, Анатолий Марченко и далее, по известному списку. Есть знаменитая агитка С.Л.О.Н. – её использовала Марина Голдовская в своём фильме «Власть соловецкая», где свидетельствует Дмитрий Лихачёв. Есть кинохроника тех лет — контрастное ч/б, исполосованное вертикальными царапинами с придушенной звуковой дорожкой: «Расстрелять, как бешеных собак!».
Весь этот мрак, страх, ужас и скрежет зубовный и есть зловещий миф, персонажи которого либо садисты-чекисты, либо их ни в чём не повинные жертвы. И те, и другие удалены от нас на безопасное расстояние давно прошедшего времени. Этот фильм ужасов про давно и не про нас. Музей, где под стеклом красуются кожаные куртки, галифе, хромачи и наганы.
Юрию Домбровскому удалось этот усопший мир немыслимым образом оживить, отчего он стал трёхмерным, весомым, зримым и по-настоящему страшным. Персонажи «Хранителя», живущие в каннибальские времена, люди страстные, взбалмошные, весёлые, болтливые, часто пьяные, они самозабвенно спорят, по уши влюбляются, рубят правду-матку, дерзят, острят, не выбирая выражений. Они кто угодно, но только не тени, жмущиеся по стенкам. Юрий Осипович лепит своих героев по образу и подобию своему!
Имеет право.
Осторожнее, дурак, опять напорешься, говорит Зыбин, alter ego автора, обращаясь к тупорылому чекисту, наступившему на гвоздь. И я верю, что и Домбровский мог такое рубануть в том самом тридцать седьмом. Но Зыбину свезло, в «Хранителе» он выкрутился, а вот Домбровскому по жизни другая карта выпала: четыре ареста, ссылка, сроки в Севвостлаге, в Озерлаге, а это, как ни крути, не Горный гигант.
Последний арест в Алма-Ате, год 1949. Свидетелем выступила молоденькая барышня, возможно, красавица-спортсменка-комсомолка. И корреспондент «Пионерской правды». В своём доносе она чаще всего использует рвотный глагол «охаивал» — Симонова, Горького, вообще всех, вообще всё советское, родное пионерское. Взвейтесь кострами, девичьи очи!
За «охаивание» впаяли Домбровскому 10 лет. Издохший Сталин сократил ему срок до шести.
А комсомолка перебралась в Москву, вступила в Союз писателей, в КПСС, стала детской писательницей, прожила долгую, счастливую жизнь. Правда, умерла не своей смертью. Мотоциклист сбил.
Юрий Осипович погиб раньше. Погиб, я не оговорился. В марте 1978 года, в Москве, в фойе ЦДЛ его жестоко избили какие-то ублюдки. Хулиганы? Может быть, но верится с трудом.
Есть у него стихотворение: «Меня убить хотели эти суки, но я принес с рабочего двора два новых навострённых топора по всем законам лагерной науки…».
Эти два романа и были его топоры, которыми он отмахивался от нечисти всю жизнь. Но суки его достали. Незадолго до этого он опубликовал роман «Факультет ненужных вещей». Во Франции. За это ещё убивали, но уже не всех. Некоторых отпускали в эмиграцию.
Однако с этим лагерным волком у вертухаев были особые счёты.
Потому что Домбровский всё же успел сделать своё главное открытие: трупные пятна проступают на теле живой жизни постепенно, незаметно, крадучись. Он сумел показать, как на рентгене, это изнурительное внутричерепное тление, когда исподволь разрастается карцинома мозга, и здравый смысл, изъеденный ею изнутри, уступает место псиной брехне, шакальему тявканью, пьяному бормотанью, а в его пустоты забираются полусгнившие мертвецы, зовущие своего Вия. И он приходит, прикидываясь то фюрером, то генералиссимусом, то вирусом в законе, в натуре, мля, падла буду.
Начинается житуха по понятиям, а правоведение становится факультетом ненужных вещей.
И это не про вчера. Это про сегодня.
Персонажи романов Домбровского, все эти упоротые краеведы, упёртые гробокопатели, истеричные доносчики, вышинствующие проповедники и ежовствующие дубаки не просто выжили, но размножились с кроличьей резвостью, окружив горстку людей, скучившихся спина к спине на пятисаженном спиле Тянь-Шанской ели, ставшей им ковчегом. Или спасительным кругом, через обвод которого эти мрази не смеют переступить? Чёрт знает.
Или это знает титаническое чудо-юдо, живущее в горах Заилийского Алатау, которое эта нечисть чтит за исполинского питона Ка?
Алё, бандерлоги! Читайте Домбровского. И тогда поймёте, что нет никого питона и не было никогда.
Есть изловленный бригадиром колхоза Горный гигант Потаповым полудохлый полоз, необычно длинный, но сморщенный, беспомощный, отвратительно мягкий, вялый.
Как член престарелого импотента.
Читайте, пока есть время, пока Алма-Ата не стала дном. Но не моря, а громадной канализационной лужи, которая прибывает и прирастает дерьмом и уриной.
5
Жена Домбровского, Клара Файзулаевна Турумова, вспоминает, как, вселившись в московскую квартиру, Юрий Осипович распахнул створки окна и закричал: «Иди сюда! Скорей! Смотри, это же Алма-Ата!».
Она ему всю жизнь сладко мерещилась. Под окном был обычный московский сквер.
Не разлюбил, не забыл, остался верным.
Он родился 12 мая 1909 года. И умер на исходе мая через 69 лет.
А 31 дня этого месяца Казахстан будет поминать жертв политических репрессий.
Среди них Юрий Осипович Домбровский. В литературных кругах его называют грубовато и нежно: Домбр.
***
© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.