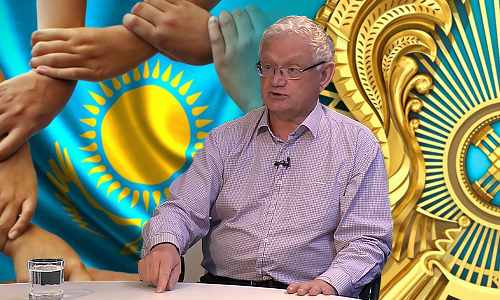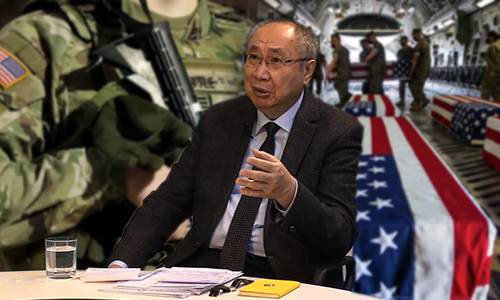Он был красивый парень. Как сказали бы украинцы, дуже гарний був хлопець.
Ростом обычный, но такой крепкий, ладный, плотно сбитый, большеголовый. А шевелюра тёмная, густая, настоящая копна, такая, что пробора не разглядеть. А брови шелковистые и вразлёт; очи карие, как из песни, а усы — всем усам усы, как у Остапа Бульбы! Однако нравом был он, скорее, Андрiй, мягкий, уступчивый, застенчивый. Никогда не видел, чтобы ругнулся или прикрикнул. Говорил впробормот, мучительно собирая высказывание, и всё курил, курил, и вдруг выкатывал фразу, свежую, точную, гибкую. И писал так же.
Виктор Кияница. Фамилия редкая. От киянин, то есть киевлянин. Київський житель. Так он объяснял, и мне это нравилось.
Кажегельдин, ставши премьером, двинул в Штаты с визитом, взяв, в числе прочих, и нас. На Боинге 747 (!) из Алма-Аты махнули прямиком на авиабазу Эндрюс, оттуда ранним утром пилили к Вашингтону в кисейном тумане. Всё вокруг напоминало съёмочную площадку, куда киношники напустили дыму. Витька, изумлённо озираясь, вымолвил: Ахмедьяныч, у меня дежавю. Я всё это уже видел. Это какой-то «ТАН», в натуре! Так называлась телекомпания Лейлы Бекетовой, где показывали много американских фильмов. Хорошая игра слов, если помнить, что таң это, по-казахски, утро.
Поселили нас в The Hay-Adams. Рядом был парк. Отчаявшись заснуть, пошли гулять. Парк был набит конными статуями, всадниками и памятниками. На пьедестале одного из них значилось «Костюшко». Стали соображать. «Слушай, Виктóр, — сказал я с раздумчивой тупостью, — а это, часом, не Лафайет-сквер? Витька хохотнул: «Ага. Скажи ещё, что тот сарай с колоннами — Белый дом…» Сквозь деревья действительно виднелся кукольный особнячок в колониальном стиле, который смахивал на что угодно, только не на Белый дом.
В парке оказалось полно скамеек, но все были заняты, на них лежали темнокожие мужчины баскетбольного роста в цветных рубахах и стоптанных кроссовках. «Sir, — донеслось с одной из них, — do you have one cigarette for me? Витя всполошился, достал пачку «Магны» и протянул её бездомному. Тот, не вставая, выудил из неё две сигареты, одну сунул за ухо, вторую в рот и невозмутимо вытянул губы, ожидая огня. Двинулись дальше, но исступлённая мольба о сигарете звучала с каждой плацкартной лавки. Виктóр сокрушённо крутил головой, не в силах отказать, но табачный провиант его иссяк. Он смял пустую пачку и не без злорадства показал её очередному просителю. Тот оказался милостив и предложил замену: maybe a quarter? То есть он был согласен на четверть доллара, миляга.
Пошли отсюда, сказал Виктóр, и мы рванули подальше от скамеек и вскоре упёрлись в Pennsylvania Avenue. На противоположной стороне виднелась изящно склёпанная ограда с приваренным к ней щитом, где значилось: White House. И до нас наконец дошло: это всё-таки Штаты.
Оголтело цвели магнолии.
Из-за фамилий случались презабавные ляпсусы. Квартирьеры службы протокола часто ошибались, полагая, что Доцук это мужчина, а Кияница — женщина. Грамматическая логика в этом была. И Женя попадала в командировках в гостиничный нумер с каким-нибудь прокуренным дядькой, а Витя вваливался к акварельной барышне, позеленевшей от испуга. Всё улаживалось по ходу дела. Времена были диетические, каждому отдельная каюта не полагалась, суверенитет был тощий. Однажды мы с Сергеем Азимовым попали не просто в одну опочивальню, но и на одну койку. Портье на рецепции смущённо хрюкал и отводил глаза, дивуясь свободе нравов, царящей в едва вылупившейся стране.
В Монреале Витя попал в пикантную западню: оказался заперт в туалете — дверной замочек переклинило. Мы его кое-как вызволили, он вырвался на свободу, шумно шевеля усами от возмущения; портье принёс ему в знак извинения выпивку, он с гневом её отверг. Ахмедьяныч, прошелестел он негодующим шёпотом, я уважаю чужие традиции, но окропить стакан колотого льда тремя капельками коньяку — это как? И немедленно выпил чистой водки.
Вот мы постепенно и задружбанились втроем: Женя Доцук, Витя Кияница и я. Делали передачу «Контекст» — из ничего, ни для кого, ни о чём, но получалось что-то иногда. Шарип Омаров, тогдашний начальник КазТв, ставил программы в эфир. Однажды пришла Дарига Назарбаева, застенчивая, угловатая, с виноватыми глазами и без охраны. Хозяйка новорождённого Хабара посмотрела наш шараш-монтаж и сделала лишь одно замечание: слово «Агенство» было в титрах без буквы «т». Программу взяла.
Познакомила всех и свела вместе, разумеется, Галина Леонидовна Кузембаева, всеобщая наша мать скорбящая, увещевающая и утешающая. Вокруг неё собирался салон Gala TV. Там Ира Кациева царила, томная и насмешливая, блистательная и опасная, как гремучая змея; туда приходил Абай Карпыков, стильный, как испанская наваха, и элегантный, как шпаликовский рояль; позже явился неистовый Асыл Абдулов и возникла Таня Бендзь, обильно текущая мыслью и словом, а с нею Игорь Полуяхтов, нечленораздельный и гениальный. Он умер рано, ещё в те годы.
И Галина Леонидовна умерла. Где-то в середине нулевых. Тогда же и Женя Доцук ушла.
***
Салон Gala TV был для души, а в рассуждении «чего бы покушать» дело обстояло скверно. Мы бросались на любую авантюру, лишь бы подзаработать. Даже рекламные ролики снимали про какое-то пиво. Приехал однажды роскошный клиент, Юрий Зарахович, собственный корреспондент журнала «Time» в Москве. Огромный, корпулентный, с львиной гривой и безупречными манерами. Он собирался писать о Жириновском. Витя нашёл целую грибницу его одноклассников, учителей, соседей, мы неделю мотались по городу на моей «Копейке», которая уважительно охала и приседала, когда в неё помещался Зарахович. Он работал красиво, без суеты. Никаких диктофонов — затрёпанный блокнотик, школьная авторучка, вопросы задавал как-то лениво, будто нехотя, слушал, полуприкрыв глаза, но люди раскрывались, как на исповеди. Это был настоящий мастер-класс. У Зараховича сложилась прелюбопытная версия происхождения Жириновского, но в печать она не пошла, не было доказательств, а беллетристики «Time» избегал. Жаль.
Подтверждения вести о смерти Зараховича, журналиста и переводчика, я не нашёл. Но помню, Витя сказал, что умер Юрий Александрович несколько лет назад.
***
Потом я стал стипендиатом Эберта, мотался между Алма-Атой, Варшавой и Берлином, а Витя работал для «Московских новостей». Иногда нам удавалось совместить даты поездок, и я зависал с ним на пару дней в Москве. Прилетев, первым делом отправлялись в Сандуны, где, напарившись, бухали помаленьку в раздевалке, довольно громко восхваляя Арасанские бани; местные недобро косили в нашу сторону. Это были ветхие старички. Напялив чистое исподнее, они рылись в сумках, извлекая шпротные бутербродики и бутылочки из-под кока-колы, где плескалась заранее нацеженная пайка водочки. Витя утверждал, что половина из них — бывшие гепеушники, ныне персональные пенсионеры. Сочинял им биографии — весьма убедительные. Всё это беззлобно, из озорства и талантливо.
Иногда хаживали в Домжур на Никитском бульваре. Однажды встретили там Юрия Щекочихина, они с Витей были знакомы. Сидели вшестером за столиком, я спиной к входу, а Юрий Петрович лицом. Вдруг оно буквально осветилось счастьем, и он выдохнул: «Петя пришёл! Вайль!» Мы с Витькой так и подпрыгнули — да ну! Сам Вайль? Остальным застольцам это имя нечего не говорило. И тут Щекочихин разразился газосварочной филиппикой в адрес московских журиков. Вот, декламировал он, эти парни, казалось бы, из далёкой провинции, а Вайля знают! И потащил нас знакомиться с Петром Львовичем, похожим на добродушного библейского патриарха. Конец пирушки был на Тверском. Стояли втроём, обнявшись, ибо нарезались, поддерживали друг друга. Щекочихин спросил меня, когда я лечу в Варшаву. «Да ну её, Польшу эту — сказал он. — Сдай билет. Послезавтра день рождения Окуджавы. Идём к нему!». Витя деликатно заметил, что мы не званы. «Старик! — торжественно проговорил Щекочихин. — Считай, что приглашены. Здесь и сейчас. От имени и по поручению юбиляра!».
Был месяц май. Сирень цвела одуряюще.
Разумеется, никуда мы не поехали. Я улетел в свою Варшаву.
Булат Шалвович Окуджава умер спустя три года, дожив до 73.
Пётр Вайль скончался в 60 лет от инфаркта в Праге.
Юрий Петрович Щекочихин умер лютой смертью при невыясненных обстоятельствах.
Ему было 53.
***
После «Хабара», где Кияница вёл НЭП, пути наши не разошлись, но как-то раздвоились. Он стал пресс-секретарём премьер-министра Балгимбаева. Я прилетал в Астану, останавливался у Виктора, иногда он спрашивал: к шефу зайдём? Я пожимал плечами, и мы шли в канцелярию. Нурлан Утепович, посверкивая цыганскими глазищами, выходил из-за премьерского надгробья, хулигански улыбался и громогласно вопрошал: «Явились, бродяги? Всё бухаете и развратничаете? Хоть бы раз старика позвали с собой!». Чаёвничали, говорили о том, о сём. Так, печки-лавочки, никогда о деле. Глаза его из ромэновских становились печальными и густели чёрной тоской загнанного волка. Так мне казалось.
Премьерство его было недолгим. Он вышел в отставку и умер шестидесяти семи лет.
***
Квартирка Вити была вверх по Ленина, недалеко от Погранки. Жили они там с Лейлой счастливо и безбытно, особо не заморачиваясь комфортом. Во второй комнатке, наполненной всяким старьём и хламьём, стояла панцирная сетка от старорежимного ложа. Там всегда кто-нибудь спал или вообще жил. Какой-нибудь разругавшийся с супругой приятель, пережидающий семейную непогоду. Или беглый московский журналист, оставшийся под небом голубым. Там я познакомился с Борей-киргизом, к примеру. А какая Алма-Ата без Бори-киргиза или Дюсика Накипова? Витя был алматинец из алматинцев, он не говорил о своей любви к этому городу, он был вибрирующей, пульсирующей частицей этой любви.
Позже они переехали на ту же Ленина, но гораздо ниже. Жилище было достойным, но без покушений на роскошь. И Лейла, и Витя были потомственными интеллигентами с врождённым и пожизненным иммунитетом против золочёной придури. Здесь они меня крепко выручили однажды. Об этом не стану, это личное и всё такое.
***
Понимаешь, Витя, я не поверил, когда узнал. Не отозвалось сердце. Чепуха какая-то. И впрямь, чуть позже появилось опровержение — жив! Ну вот, сказал я тебе, придуриваешься, Кияница? И вспомнил, как мы года три назад собрались в Арасан обычной нашей компашкой: ты, Миша Коган, и я. А ты вдруг забузил, сослался на срочные дела и отменил поход. И парились мы с Мишей, без тебя, и было это странно, мы хлестались вениками, а одной руки будто не хватало. После бани Коган тоже свалил, а я забрёл в какой-то бар и стал пиво пить. И встретил там Светку Коковинец. И мы болтали о том, о сём, печки-лавочки, но больше о тебе говорили. Сидели на летнике, ветер вдруг поднялся, фонари раскачивались, тени прыгали и плясали, как в кино.
Вот такое я зачем-то вспомнил, когда прочитал, что ты воскрес. Но в эту минуту пришла ещё одна весть. Ты всё же помер.
Эту фотку Щербаков сделал, это он пялится в объектив и щерится, как хмельной гусар. А он и был им. А ты умильно смотришь на него из противоположной стороны, распушив усища. А Эдуард Лимонов в центре. Сидит, насторожённый. Он в своей «Книге воды» изобразил это банное приключение. Ему казалось, что мы его отравим или утопим в бассейне. Он нас поначалу за ментов принял. Ничего, позже он оттает, и мы как следуем накатим, провожая его. Это конец девяностых, все ещё адски молоды, красивы, талантливы. Щербаков придумал гениальную надпись к снимку: «Это мы с Эдичкой!».

Щербаков умер пару лет назад. Как положено гусару, не допив рюмки коньяку на летнике алматинского кафе. Писатель Лимонов ушёл в прошлом году. Не дожив, слава богу, до вселенской слизи и мрази сегодняшнего дня. Ему было 77.
Нынче схоронили тебя.
Я не буду молоть обрыдлой чуши о том, что снаряды ложатся всё ближе. Просто, старик, мы вступили в «возраст дожития». Это когда и сектор газа, и штурвал — от себя. Снижаемся, ищем посадочные огни. Повезёт, сядем с комфортом под аплодисменты, не повезёт — гробанёмся, где придётся и как попало. Все помирают. Смерть, в конце концов, едва ли не главное событие человеческой жизни, она превращает её в судьбу.
Да и новые гости, которые садятся за уготованный им пир, деликатно намекают, что долго маячить в гостях не комильфо. Они правы. Пусть пируют. И дай им бог своего Лимонова.
Витя, я даже помянуть тебя не могу. Потому что нельзя. У меня в крови плавает литр сахарного яду, да и хрен бы с ним, дело не в хвори. Просто не хочу пить за покойника.
Потому что те, кого мы любим, живут. Продлимся в памяти друг друга. Ты был дуже гарний хлопець, Виктóр.
Будь.
***
© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.