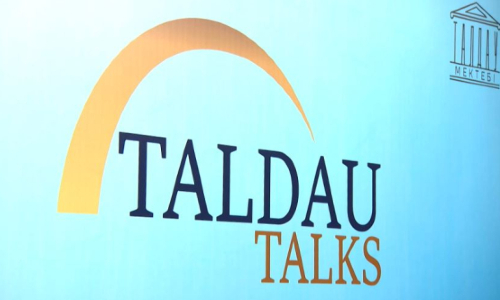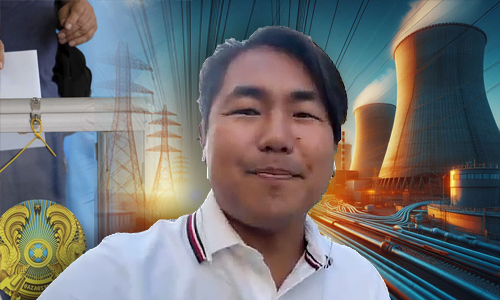Участники “круглого стола” сотрудники Института философии и политологии МОН РК, профессоры Елена Бурова, Валентина Курганская, Анатолий Косиченко, архитектор и культуролог Бек Ибраев, профессор АГУ имени Абая философ-религиовед Нурмагамбет Аюпов, журналист, заведующая отделом прозы и публицистики журнала “Простор” Людмила Коптева, председатель общественного объединения “Союз мусульман Казахстана” Мурат Телибеков.
Вера и национальная идентичность
“Байтерек”: Сегодня активно и, видимо, вполне закономерно, идет процесс самоидентификации населения страны — в том числе и по конфессиональному признаку. Согласитесь, в общественной жизни заметно возросла роль религии. Как вы оцениваете современную религиозную ситуацию в стране? Как охарактеризуете взаимоотношения государства и религии?
Анатолий Косиченко: Да, мы наблюдаем возрастание роли религии — как в общественном, так и в личностном плане. Есть несколько причин у этого явления. Во-первых, мы обрели свободу вероисповедания. Не секрет, что раньше с этим были определенные сложности. Во-вторых, имеет место позитивное отношение общества и государства к религии: в частности, ислам стал признаваться моментом национальной идентичности. Не только казахов, но и всех среднеазиатских народов, всех тюрков. Хотя, на мой взгляд, абсолютизировать ислам в этом качестве неверно. Все мировые религии называются таковыми именно потому, что открыты всем, каждому человеку. К примеру, японец может быть христианином, и, кстати, в Японии довольно много католиков. Между этнической принадлежностью и конфессиональной идентичностью нельзя ставить знак равенства. Да, конечно существуют такие понятия, как Русская или Сербская православная церковь. Или говорят: ислам – религия арабов. Все это верно лишь отчасти, региональная этническая привязка к религии обусловлена историческим развитием и носит вторичный характер, но вряд ли можно и нужно закреплять это как момент идентичности. Чтобы стать хорошим казахом, обязательно ли надо быть мусульманином?
Нурмагамбет Аюпов: Интерес к религии возрос. Но связано это не только с дефицитом идеологии и духовности. Семьдесят с лишним лет люди здесь жили под запретом религии как таковой, и с обретением независимости почувствовали свободу и ринулись к вере. Но пришли – с разным багажом. У тех, кто был атеистом, сложилась одна религиозность и она отличается от религиозности тех, кто продолжал и в советское время верить. Нельзя говорить, что идет повальное увлечение религией или что она заменила собой всю идеологию. Когда СМИ пишут, что появилось много новых нетрадиционных религий, и казахи массами переходят из ислама в эти новые движения- то что это? Пропаганда новых конфессий, или за этим стоят другие, не понятные пока нам силы, которые преследуют свой интерес? То, что мы имеем в современном Казахстане, – это веками выработанное толерантное отношение к многообразию конфессий, многообразию религиозных идей.
Анатолий Косиченко: Что касается светского государства и религии — вопрос сложный. И не только для Казахстана. Даже ведущие демократические страны не придерживаются собственных демократических принципов во взаимоотношениях с религиозными объединениями. В Германии, к примеру, со всех без исключения собирают однопроцентный налог и выплачивают с него зарплату служителям только двух конфессий — протестантам и католикам, хотя там есть и православные, и мусульманские священнослужители. При декларируемом равенстве все страны в том или ином виде патронируют “свои” религии. Поэтому ничего удивительного в том, что исламу и православию в Казахстане государством уделяется усиленное внимание и даже оказывается помощь. На мой взгляд, это правильно. А новые религиозные движения должны пройти временной ценз, в ходе которого они докажут свое позитивное влияние на наше общество – 15-20 лет. Если мы увидим, что свидетели Иеговы за 15 лет в Казахстане сделали то-то и то-то полезное для государства — ради бога, пусть существуют.
“Байтерек”: Вы предлагаете этот ценз по отношению ко всем новым верованиям? Ведь многие из них, судя по сообщениям СМИ, уже прочно прописываются в нашей стране?
Анатолий Косиченко: Да. Но, кстати, новые верования и движения не так уж здесь распространены. Их не более пяти процентов от общего числа верующих. Просто они сильно о себе шумят, часто мелькают в СМИ. Из-за этого складывается впечатление, что их много. Мне кажется, у нас в Казахстане, как и в мире, вообще, неверно понимается сущность религии. Считается, что религия – это момент идентичности. Или говорят: религия — средство мира. И так далее. Но это – обыденное представление. Что есть религия? Спасение души для вечной жизни.
Нурмагамбет Аюпов: В Казахстане две традиционные религии — ислам и православие. И, замечу, православие в Казахстане более консолидировано, более едино, чего, к сожалению, нельзя сказать об исламе. Не секрет, что молодые люди, отправленные нашим же государством учиться в разные страны, возвращаются с совершенно различной идеологической окраской ислама. Эти молодые люди не принимают и не воспринимают наш местный или, как часто говорят, народный или даже казахский ислам. А один, вернувшись домой после учебы в Пакистане, начал рушить и убирать надгробные плиты на могилах усопших родных: мол, не положено. И еще. Смешно и странно слышать, когда говорят: мы — казахстанские суфии. Для этого надо хотя бы знать историю и идеологию суфизма, направления…
Религиозный инстинкт
“Байтерек”: Возможно, чтобы быть на пути веры, необязательно знать его историю?
Нурмагамбет Аюпов: Но нужен же определенный духовный путь, необходимы определенные знания, чтобы претендовать на то, чтобы именоваться суфием! Или, допустим, у нас есть мусульмане – ахмадийцы. Между ними и официальным духовенством существуют определенные трения. И мы нередко становимся свидетелями перепалок руководителей различных направлений и течений в исламе. У служителей ислама должно быть чувство ответственности – нельзя вносить семена раздора в умы последователей этой великой религии.
Мурат Телибеков: Знаменательно, что это заседание происходит в месяц Рамазан. В это время мусульмане не только проявляют усердие в молитвах, но и уделяют большое значение религиозным проповедям и беседам о духовности. Всплеск интереса к религии сегодня объясняется разными факторами, в том числе и теми, о которых уже говорилось. Но я хочу сказать о другой причине. Мне думается, вполне правомерно говорить о религиозном инстинкте, изначально заложенном в каждом человеке. Что я понимаю под религиозным инстинктом? Это, прежде всего, неосознанное, рефлекторное стремление к Богу. Его интуитивное предчувствие во всем, что окружает нас. Религиозный инстинкт может долгое время дремать и проснуться в экстремальных условиях. Это может произойти на склоне лет или в раннем детстве. Это чувство сродни инстинкту самосохранения. Будучи одним из фундаментальных свойств человеческого сознания, он срабатывает в каждом из нас, определяя не только мировоззрение, но социальное поведение. Говоря о возрастании религиозного фактора, хотелось бы подчеркнуть, что это касается не только Казахстана. Число верующих в мире растет из года в год, а религиозные деятели оказывают влияние не только на духовную, но и на экономическую, и политическую жизнь. В этом контексте очень важно говорить о единстве религиозных вероучений. В Коране неоднократно подчеркивается, что миссия пророка Мухаммеда заключалась в том, чтобы подтвердить учение, которое принесли Иисус, Авраам, Ной и Моисей. Сейчас, в условиях глобализации, когда идет интенсивное взаимное проникновение культур, это чрезвычайно важно. Что касается отношений общества и религии, то, на мой взгляд, это прерогатива каждого государства. Здесь нет универсальных рецептов. Допустим, строительство католической церкви в Саудовской Аравии — это нонсенс. Но в Казахстане иные условия. Несмотря на то, что ислам и христианство доминирующие религии, дискриминация иных вероисповеданий недопустима. Более того, как это не парадоксально звучит, но государственный патронаж приводит к тому, что привилегированное духовенство становится неконкурентоспособным рядом с зарубежными миссионерами.
Людмила Коптева: Как человек, работающий в СМИ и регулярно смотрящий ТВ, я заметила: когда во время ток-шоу выясняют, например, можно ли мужу изменять регулярно или иногда (ответ “никогда” не подразумевается) и, слово берут даже не священнослужители, а просто верующие люди и пытаются говорить не только о грехе прелюбодеяния, но и вообще о нравственности, то даже по эту сторону экрана чувствую неловкость, которую ощущают ведущие программы и зал. Будто только раздался возглас мальчика сказки: “А король-то – голый!”. Подозреваю, что мы настолько погрязли в грехе, что не хотим слышать даже голос собственной совести. Что касается, “всплеска” интереса к религии, мне кажется, дело не в дефиците идеологии и духовности. У нас сегодня нет, мне кажется, нравственных критериев, которые провозглашались бы основополагающими, то есть тем фундаментом, на котором стоит общество. Раньше были взятые из Библии, но переработанные принципы — Кодекс строителя коммунизма. А сейчас, скажите, вы вот произносите слова “честь и совесть”? Бывает, месяц проживешь и ни разу не услышишь. Эти понятия — норма бытия, а сегодня они и то, что за ними стоит, не декларируются никаким образом, и создается впечатление, что нравственные нормы чуть ли не устарели. Обществу необходимо очнуться. В этом залог нашего спасения.
Елена Бурова: Хотела бы обратить внимание на социальные аспекты темы. Казахстан на протяжении последних десятилетий переживает серьезные трансформационные процессы, которые заставляют каждого человека, группу и общества в целом по-новому идентифицировать себя в социокультурном пространстве. И эта идентификация предполагает, в том числе поиск новых ценностных опор. К их числу относится и вера. Когда человечество переполнено рациональным, то всегда происходит маятниковое смещение в сторону нерационального. Вера в бога, на мой взгляд, задается не идеологическими концепциями государства, это глубоко личностный процесс. И все способы регулирования и политизации данной сферы обречены. Но это вовсе не означает, что государство не должно заниматься изучением, исследованием тенденций религиозного мировоззрения, интересоваться деятельностью религиозных организаций – они должны быть в фокусе государства как институты гражданского общества. Анализ показывает, что у нас имеется три способа идентификации с верой, обращения к ней. Первый можно назвать фундаментальным, он характерен для людей, которые и в пору атеистического прошлого, и в настоящем связывают свою духовную жизнь с поиском и служением идеалам веры. Это, собственно, истинно верующие, как правило, представляющие основные конфессии и мировые религии в Казахстане. Их не так уж много.
Далее есть часть людей, которые восприняли свою необходимость идентифицироваться с верой – (не в вере, а именно — с верой), то есть, внешним образом, совершенно независимо от трансформации своего миросозерцания. Просто стало модным в определенном идеологическом контексте акцентировать свое отношение к религии. Этот путь далеко не безобиден, подобные люди ( как правило, публичные, то есть способные оказать влияние на мировоззрение других) выполняют своеобразный идеологический заказ. Эффективность их воздействия на массовое сознание можно воспринимать как сомнительную, потому что этим людям ничего не стоит поменять свои ценностные императивы. И третья категория обращенных – та часть, на которую я, как социолог, обратила бы особое внимание. Это люди, которые приходят к вере в результате отчаянья или фрустрации. Собственно говоря, это люди, которыми можно манипулировать, воздействуя через механизмы экстремизации их сознания. Это как раз же граждане, которые не знают глубоко предмет веры, историю и сущность религии, и которых поэтому очень легко втянуть в околорелигиозные формирования, переориентировать их интересы в социальной и политической жизни. К сожаленью, именно здесь много молодежи. Той молодежи, что не обустроено и экономически, не имеет доступа к качественному образованию.
Что касается взаимоотношений государства и религии, мне кажется, тут невозможно избежать политических и идеологических акцентов. Но все же хотелось бы видеть политику нашего государства более корректной. Конечно, ислам и христианство – самые большие концессии в Казахстане, но мы не должны пренебрегать и новыми образованиями. Их деятельность внешне активна, и это означает только то, что за мировоззрение сограждан ведутся нешуточные баталии. И здесь большую роль должны сыграть ученые, которые должны изучать тенденции, которые происходят в массовом сознании, в том числе и в религиозном сознании. Необходимо сообща разрабатывать приемлемые для казахстанского общества программы духовности.
“Байтерек”: Что вы под этим подразумеваете?
Елена Бурова: Если мы хотим мира и стабильности в мультикультурном, многоконфессиональном и полиэтничном обществе, есть смысл говорить о наднациональной и надрелигиозной идее, интегрирующей казахстанское общество.
Искусство как признак религии
Бек Ибраев: Первым мусульманином стал Мухаммед, который не знал даже, что такое вера. Те суфии, которых я видел, не могли рассказать биографию и труды Ахмеда Яссави, но, тем не менее, это были настоящие суфии. Один был шофером КаМАЗа. Когда я спросил, почему роза является символом суфизма, он, ответил мне буквально так:
— Роза, это как лепестки: ищешь истину, открываешь один лепесток, следом другой, потом остальные, вскрываешь их все, а там – ничего. Пустота. Это смысл, говорит, религии — открытие занавеса и стремление к голой правде. И сам стебель, по которому ты к ней поднимаешься, – с колючками. Ободранный этими колючками, добираешься с трудом, думаешь, до главного, а там – пустота. Понимаете, это мне простой шофер сказал, и то же самое я прочитал у Руми. Мы здесь сталкиваемся с тем моментом, который никто еще из религиоведов тут не поднимал: не есть ли это управление нами каких-то высших сфер? То, что называется порой словом “ноосфера”? Ведь что такое религия? Это – внутренний процесс. Управление — внешнее воздействие. А тот процесс, который идет внутри нас, он идет сверху – в виде идей. Одна и та же идея появляется у всех по- разному — во сне, озареньем, в виде неожиданных программ — кто-то все время подбрасывает их сверху. Нами управляет этнический мозг. Называйте это мистикой, как хотите, но я сделал два парадоксальных вывода. Первый: сознание находится вне нас. Оно не в коре нашего мозга. Идея, мышление, задача даются сверху. Второй постулат: помимо белковой жизни, существуют еще и другие виды жизни. Что такое вера? Нечто бездоказательное? Ничего подобного! Вера — то, что заходит в вас, вовнутрь вас, это другой мир, с которым вы вступаете в контакт. Я вот в свое время спрашивал у Льва Николаевича Гумилева, почему ислам, буддизм или христианство с трудом проникали на территорию Казахстана. Гумилев ответил: значит, на этой территории есть своя мощная система, которая ее защищает, дает силу и озаренье. Гумилев знал, что говорил. Поэтому кришнаиты, которые тут появились, не очень меня смущают.
Хотя, конечно, сейчас идет массированная атака на наш регион: чуть ли не через каждые два квартала возникают какие-то церкви “святой надежды”, на улице постоянно миссионеры пристают. В этом смысле правительство, наверное, обязано все-таки какие-то меры принимать – ведь эти новые конфессии существуют на чьи-то деньги, видимо, в них делаются огромные вливания, раз они здесь имеют помещения, штат. Раз страну так атакуют, она должна защищаться. Когда ко мне приходили господа иеговисты, я спросил у них всего о двух вещах. Первое: есть ли у них искусство. Ведь если это идет от Бога — всегда появляется искусство, к примеру, есть архитектура ислама и архитектура православия, католичества и т.д. Каждая религия создает свои произведения искусства — собственную эстетику. Поэзию, музыку, театр. А здесь – что есть? Иеговисты мне на этот счет ничего не могли предъявить. Второй вопрос, который я задал им: Если враг нападет, будете биться за нас? Они говорят: Мы не берем оружие в руки. — Значит, если завтра война и надо будет защищать наших женщин и детей, нам даже рассчитывать на вас нельзя? Во всех религиях принято защищать своих, а тут что за абстрактный гуманизм? Вы говорите о понятии религии, но на деле это есть понятие этнического мозга. Наши этнографы записали огромное количество шаманских камланий, весь процесс в деталях: пять раз ногой топнул, десять раз произнес одну и ту же фразу, издавал в течение получаса такие-то звуки и т.д. Я спрашиваю, а как шаман рак вылечил? Как парализованную женщину поднял? Что записано по этому поводу? Ноль! Это проходит мимо сознания. Поэтому тот подход к религии, который я тут наблюдаю — с чисто социальной и политической точек зрения, — такой подход неправомерен и даже, считаю, опасен.
Валентина Курганская: Если следовать вашей логике, то и вашу позицию в вас вложили сверху. Каждый из нас по-своему оценивает ситуацию, в которой мы живем. А что касается конкретно религии, то научные и ненаучные формы знания, как известно, переплетаются. Вера, как говорил один философ, камертон, по которому настраивается душа человека. Изучая духовные тенденции в жизни казахстанского общества, можно констатировать: пока что превалирует внешняя обрядность. Результаты наших опросов подтверждают то, что подметил тут один из присутствующих: категория совести в среде молодежи недоступна и непонятна. И это не только у нас, во всех постсоветских странах такая ситуация. На страницах прессы при этом часто видим высказывания представителей традиционных конфессий о том, что наступила духовная революция. Называется такая цифра: у нас 10 миллионов мусульман. Понятно, что здесь происходит просто путаница культурной и национальной идентичности, всё накладывается друг на друга; всех тюрков автоматически записывают в мусульман. Включая детей! У меня часто бывают встречи-дискуссии с президентом религиозно-просветительского общества “Каганат” Сапаралы Бейбит-кажы. Сыну его десять лет. И он говорил: — Мой сын – мусульманин. Я ему возразила: “Как он может быть мусульманином, ведь он должен сознательно понять и принять веру, следовать ее канонам? А он пока лишь автоматически копирует то, что делаете вы. Вот когда он вырастет и сознательно выберет этот путь, поскольку это будет отвечать его внутренней сущности, тогда да, можно сказать: он – мусульманин”. Основы религиозного просвещения дети получают в основном в семьях. В наших опросах, процентов семьдесят верующих отвечают: основы знаний веры получил в детстве, от родителей. Если говорить о нетрадиционных конфессиях, то, действительно, не более 4-5 процентов верующих имеют отношение к ним. И у молодых людей в посещении тех или иных мероприятий этих конфессий присутствует часто лишь прагматизм: английский язык, компьютерная грамотность, доступность Интернета и т.д. Результаты обследований фокус-групп говорят о том, что молодежь у нас имеет слабое представление вообще о существовании нетрадиционных конфессий. В 2003 году мы проводили социологический опрос студентов – тех, что прослушали спецкурс “Библии и Корана”, в Северо-Казахстанском университете, хотели выяснить степень влияния религиозных организаций на молодежь РК. Нас просто поразила безграмотность людей, хотя наши вопросы не выходили за рамки только что прослушанного ими спецкурса! А что уж говорить о молодежи, которая не охвачена высшим образованием?
События в Казаткоме и Маловодном показали, что участвующие в них молодые люди не были истинными мусульманами. Если бы они были действительно ими, то возможно ли, чтобы там произошло подобное? Конечно же, нет! Так что, о какой духовной революции может идти речь?! Скорее, мы можем говорить о духовно-нравственном кризисе в обществе.
Мне кажется, Духовное управление мусульман могло бы более предметно заниматься просветительской работой. Например, произошло какое-то крупное событие – значит, должна быть подготовлена фетва, люди должны знать отношение к этому событию духовного управления не только через своих имамов. Я часто прохожу мимо мечети в “Орбите”, там постоянно продают религиозную литературу, но ни разу ни одной фетвы я там не видела. А четкая позиция ДУМК по поводу трех или иных явлений в жизни страны обязательно должна быть обозначена — это, кстати, обеспечивает авторитет его руководству. То есть, с населением надо работать и работать. Но при этом духовное просвещение молодежи в учебных заведениях должно обеспечиваться светскими религиоведами, а не представителями конфессий.
Наше общество достаточно толерантно в религиозном отношении, и, как показывают опросы, проведенные нами в рамках проекта института философии и политологии МОН РК “Формирование толерантного сознания и профилактика сознания и профилактика экстремизма в казахстанском обществе”, особенно доброжелательно относятся друг к другу представители традиционных конфессий. К нетрадиционным конфессиям — несколько настороженное отношение. Респонденты также в большинстве считают, что ни в коем случае религия не должна заниматься политикой, ее сила – в повышении нравственности, духовности людей.
Со времен папирусов
“Байтерек”: Практически все говорят о духовно-нравственном кризисе в нашем обществе. По-вашему, роль религии в преодолении этого кризиса – решающая и определяющая? Разве нет других факторов?
Анатолий Косиченко: Полагаю, роль религии – здесь абсолютна. Иного другого феномена я не вижу.
Нурмагамбет Аюпов: Нельзя так категорично заявлять. Есть же вещи, которые мы называем светской духовностью, культурой, воспитанием, традицией…
Анатолий Косиченко: Надо быть последовательными. Истоки всего перечисленного опять же – в религии. Или в том, о чем говорил Бек Ибраев. Но правда, тут вопрос, каким путем к нам приходит многое из того, о чем говорил Бек? От сил добра или зла? В исламе и православии есть традиция проверять духовное знание, приходящее извне – в видениях, через ангелов, как угодно. И опыт показывает, что надо очень осторожно относиться к этому знанию – чаще всего это приходит от темных сил. Сто раз надо проверять. Нам это трудно, мы стали духовно нечуткими. Сегодня мы столкнулись с кризисом постмодернизма — мы пришли к нравственной и духовной прострации. Мы утратили традиционные ценности, утратили порыв к осмыслению жизни, мы все очень индивидуализировались, нас ничто не может объединить, мы эгоистичны. И при этом хотим жить счастливо.
Нурмагамбет Аюпов: Древние египетские папирусы говорят о том же: нынешняя молодежь никуда не годится, она не хочет ничему учиться и так далее. Эта идея кочует из поколения в поколенье. И все высказывания про духовно-нравственный кризис, про то, что стоим чуть ли не на пороге всеобщей катастрофы, завершения истории, не впервые звучат.
Анатолий Косиченко: Но в первый раз мы это ощущаем с такой остротой.
Нурмагамбет Аюпов: Не впервые говорится, что только религия, только Бог спасет человечество. Конечно, никто не отрицает, что религия, действительно, играет очень большую роль в духовном развитии человека, общества, народа. Но говорить, что только религия спасет, – тоже неправильно. Прежде всего, есть сам человек.
“Байтерек”: И есть же свободная воля человека.
Анатолий Косиченко: Она дурна и греховна. Свободная воля человека сейчас поражена грехом. Человек с этой волей и натворил все то, что мы сейчас видим кругом.
Валентина Курганская: В таком случае, вообще, значит, нравственных людей нет, так что ли?
Бек Ибраев: Будем говорить так: мы в культурном смысле все продукты католического западно-европейского развития — от компьютера до модели поведения. Мы провинция Запада. Мы – продукт той культуры мышления. Очаг – там. Давайте взглянем на него. Стили в искусстве сменяли один другой. Барокко сменилось классицизмом, тот – модерном. Модерн – постмодерном. И заметьте, каждый последующий стиль при движении этноса к собственному концу был короче предыдущего. Если барокко существовало 200 лет, классицизм – 150 , то пост-модернизм – всего 20 лет. То есть, существует спираль развития, и чем меньше виток — тем ближе точка конца. Когда прежняя культура рушится, ее осколки становятся фундаментом новой. Так идет смена этносов. Такова природа этногенеза. Это система. Альтернативы ей нет. Каждый раз в истории этногенеза так поднимались новая религия, новая эстетика, новая культура.
Нурмагамбет Аюпов: Это лишь определенная позиция. Нельзя считать ее последней истиной и утверждать, что она ставит точку в этом споре.
Бек Ибраев: Когда я в 1978 году говорил, опираясь на эту систему, что Советский Союз рухнет, в академии наук надо мной смеялись, считали это бредом.
“Байтерек”. Вы — религиоведы, но впечатление от ваших речей такое, что поневоле закрадывается подозрение, что вы именно религиозные, верующие люди.
Анатолий Косиченко: Это не столь важно. Мы достаточно хорошо знаем предмет. Просто дело в том, что религии отводят сейчас неподобающе место. От нее требуют того, что она выдает лишь очень напрягаясь. Все политические, социальные проекты для нее – вынужденные. Государство и общество требуют от нее этого, и она это ткет. Все хотят использовать феномен веры в своих интересах – экономических, политических…
“Байтерек”: Значит, религия просто дает себя использовать — как можно без ведома и согласия использовать ее?
Бек Ибраев: Очень просто. Кто-то хочет пройти наверх, во власть и при этом использует те же религиозные тезисы.
Анатолий Косиченко: Да, тем завоевывает доверие.
Валентина Курганская: Потому мы и говорим о духовно-нравственном кризисе.
Богу – богово
Анатолий Косиченко: У религии свое место в обществе, и не следует навязывать ей несвойственные функции. Вот сегодня в России хотят православию дать статус господствующей религии. Московский патриархат отказывается: непосильная ноша.
“Байтерек”: Но вот вам обратный пример — Исламская республика Иран.
Нурмагамбет Аюпов: Да, потому что в исламе изначально нет деления на светское и духовное, там это нераздельные вещи. И тут резонно возникает вопрос: могут ли наши пост-советские азиатские страны — Казахстан, Узбекистан и т.д. — стать исламскими государствами? Но здесь, и тут я солидарен отчасти с Беком Ибраевым, мы, тюркские народы, имеем иную мировоззренческую, религиозную основу. Это то, что мы называем тенгрианством. Оно настолько универсально, что спокойно восприняло в себя и исламские, и христианские идеи. И это позволяет говорить о том, что наши тюркские государства не станут исламскими. В истории есть факт, подтверждающий это: Ататюрк в свое время обозначил светский путь развития Турции.
Анатолий Косиченко: А в наше время Турция поворачивается, кажется, именно в сторону исламского государства.
Нурмагамбет Аюпов: И, тем не менее, это не свершившийся факт. Если следовать тенгрианскому пониманию мира, то там нет линейности. А если следовать семитскому духу, то там есть начало и конец. Естественно, в этом контексте возникает идея конца света. Всё — кризис, завтра исчезнем. А тут — совершенно иначе — всё бесконечно.
Валентина Курганская: Вот коллега Аюпов отрицает наличие кризиса, мол, во все времена молодежь ругали. Но у нас-то, вследствие модернизации, кризис системный. Понятно, что это происходит во все переломные эпохи, но нам-то от этого не легче — мы здесь живем, и каждый день сталкиваемся с этой ситуацией. И в системе образования, и в медицине.
“Байтерек”: Но кризис же не может быть бесконечным?
Бек Ибраев. Нормальная ситуация кризиса. Но она — преодолима. Мне кажется, мы правильно движемся, это главное.
“Байтерек”: Какой, на ваш взгляд, будет в дальнейшем религиозная составляющая нашей страны?
Анатолий Косиченко: Мне думается, взвешенное отношение к религиям на современном этапе к религиям, когда им позволяют, дают развиваться, и в то же время не дают захватывать всё идеологическое пространство, достаточно правильно. Мы двигаемся в верном направлении. И никаких революционных шагов в этой сфере делать не надо. Но я бы предпочел усилить патронаж со стороны государства по отношению к исламу и православию в сравнении с новыми религиозными движениями.
Валентина Курганская: Я считаю, что нетрадиционным конфессиям тоже надо больше давать слова. Ведь почему люди боятся? Они их не знают. А надо знать, чем руководствуются эти движения, что сделали полезного в социальном плане для общества и страны, а то люди рисуют себе страшилки на их счет. Надо предоставить им слово.
Мурат Телибеков: В Казахстане не существует проблемы межконфессиональных конфликтов. На мой взгляд, мы придаем этому вопросу гипертрофированное значение. Общество волнуют куда более важные проблемы, к примеру, такие как распространением наркотиков, рост преступности, коррупция, социальные контрасты. Именно это может нарушить социальную стабильность, но отнюдь не религиозное многообразие. К сожалению, политики порой занимаются решением надуманных проблем. Я понимаю, если бы наблюдалась межрелигиозная вражда, антагонизм между конфессиями. Но такого, к счастью, нет. Зато есть масса других, куда более важных проблем, для решения которых представители различных конфессий могли бы объединиться.
Учимся демократии
“Байтерек”: Специалисты в области религии склонны говорить, что все нормально, опасности не существует. Но мы понимаем, что опасность — зреет. Вот, по ТВ показывали сбор последователей одного течения в исламе: люди сидят и раскачиваются в экстазе. У зрителей возникает неясная тревога по этому поводу. Но официальные органы (помимо правоохранительных, которые действуют часто грубо) не обращают на это внимания. Но ведь то идет работа с массовым сознанием. Государство должно корректировать свою идеологию, свои представления с точки зрения таких вот явлений?
Анатолий Косиченко: Мы мало знаем о сущности новых религиозных движений, их истоках, характере и способах деятельности. Было бы желательно узнать содержание их социальных программ. Может, имеет смысл предоставлять им больше возможностей говорить о себе? В СМИ, например? При этом мы не “выпустим джина из бутылки”, как боятся некоторые, ведь новые религиозные движения уже активно действует в Казахстане.
“Байтерек”: Ислам и христианство в стране работает, скажем так, по догматическим принципам. Для них важно пространство сакральное. Но жизнь — пространство повседневной заботы. Традиционные религии в нем не работают, ограничиваются исключительно мечетью и церковью.
Анатолий Косиченко: Ни ДУМК, ни православная церковь не выходят на улицы с проповедью — прозелитизм им не свойственен.
Байтерек: Речь не о прозелитизме даже — надо же как-то отвечать вызовам нового времени. Может, есть смысл менять методы работы?
Нурмагамбет Аюпов: Для традиционных религий нет новых времен. Но все верующие являются гражданами этого государства. И есть моменты, когда государство должно действовать более организованно, жестко, целенаправленно и, я не побоюсь этого слова, не играть в свободу, а действительно регулировать процесс. Если какое-то религиозное объединение, какая-то религиозная организация действует не в рамках закона, государство должно применять меры. Свобода совести – хорошо, но всегда надо помнить о национальной безопасности, безопасности народа. “Свидетели Иеговы”, “Хизб ут-Тахрир”, “Ахмадийя” запрещены во многих государствах, а почему мы должны всем открывать двери?
Мурат Телибеков: По поводу пугающих сцен по ТВ хочу сказать следующее. Порой мы наблюдаем весьма экстравагантные религиозные ритуалы, и это вызывает подозрения у людей. Либерализм, охвативший экономику, пока не коснулся духовной сферы. Она, по-прежнему, консервативна, реакционна и нетерпима. Мы должны культивировать плюрализм в вопросах вероисповедания. Взять, к примеру, США или европейские страны. Там благополучно существует огромное количество религиозных сект и организаций, и никому в голову не приходит упрекать в том, что их ритуалы не соответствуют “международным стандартам”. В конце концов, есть уголовный кодекс — человек отвечает за совершенное преступление, а как он молится — бьется ли головой о стенку, издает нечленораздельные звуки – личное дело каждого. Мы живем в мультикультурном обществе, и религиозное многообразие неизбежно.
Елена Бурова: На мой взгляд, и я тут согласна с Аюповым, будущее Казахстана как евразийского государства – это светское развитие, а все религиозные организации должны обрести статус организаций гражданского общества, и у них у всех должны быть равные права. Сегодня вести государственную политику в плане поддержки основных конфессий и, скажем, сдерживания нетрадиционных конфессий – достаточно сложно. И наша традиционно атеистическая обеспокоенность она тоже понятна. Хотя я человек нейтральный, не атеист, но и не принадлежу к религии, эта тема меня очень беспокоит. С точки зрения права, мы должны соизмерять наше законодательство с гражданскими правами и свободами. Но самым главным критерием должно быть благополучие отдельно взятого гражданина Казахстана. Когда государство будет обеспечивать безопасную жизнь, благополучие, открытый путь, выбор, достойное образование, уровень социальных благ, тогда более гармонично будут регулироваться и отношения между религиозными направлениями, конфессиями и самим государством.