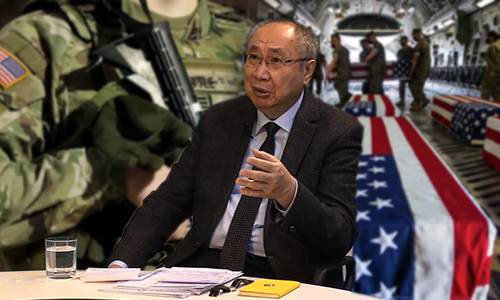1
Вот, помню, оказался в Германии в конце девяностых на выборах, которые проиграл христианнейший дедушка Коль, и на канцлерство заступил социаль-демократ Герхардт Шрёдер с волчьим оскалом прирождённого вожака. Всюду висела его агитация: огненно-красный фон и чёрно-белый портрет с пионерской речёвкой — Ich bin bereit! (Я готов!) На некоторых виднелась сделанная фломастерам ядовитая приписка — Zur nächsten Ehe?(К следующему браку?) Личная жизнь Шрёдера изобиловала мелодраматическими историями.
Команда журналистов, приглашённая правительством ФРГ, была составлена из разнокалиберных москвичей, петербуржцев с примкнувшей к ним трогательно нелепой и смешной барышней из Казани по имени Гюзаль; Азию представляли: красавица Джинет из Ашхабада, умный, как Знайка, философ Бектемир из Бишкека и я, телевизионный балабол из Алма-Аты.
Нас неутомимо возили из города в город, погружая по самые брови в нутряное сусло электорального брожения. При этом — никаких обязательств. Требовалось просто наблюдать.

Действо оказалось нескучным. Будущий министр иностранных дел Йошка Фишер хипповал в джинсах и свитерке, удачно закосив в этом прикиде под берлинского циника-интеллектуала, и мог за час-полтора уложить на лопатки аудиторию любой сложности, что и сделал на моих глазах в католической Фульде с её вечно поджатым в ниточку, всегда недовольным ртом. Запомнился сумрачно-суровый, но твёрдый и справедливый, как немецкий закон, Вольфганг Шойбле, выезжавший на сцену в инвалидной коляске, – в начале девяностых ему стрелял в спину из Smith & Wesson 38 калибра какой-то наркоман. На избирательных участках шумно лаяли духовые оркестры, порождая опасливые воспоминания о фильмах времён расцветающего гитлеризма. Ораторы были великолепны.
Невольно повинуясь закону партийного деления, команда журиков распалась на две части: первая, многочисленная, кучковалась, мелко лизоблюдствуя, вокруг самонадеянного москвича-известинца, обладателя редкого вида картавости, когда слюна, закипая, булькает рядом с коренными зубами верхнего ряда и вдруг хлёстко вырывается наружу вместе со звуками «р» и «л», нещадно при этом брызгая. Этого усохшего типа я и сегодня изредка наблюдаю, он витийствует на бесчисленных ток-шоу российских телеканалов.
Наша азиатская фракция существовала отдельно, сама по себе. Сложилась уютная манера общения, состоящая из дружеского зубоскальства и невинного, но всё же неизбежного флирта – Джинет была очень красива. Однако пошлых признаков ухаживания и петушьего соперничества удалось избежать, все были недурно образованы и воспитаны. Чаще всего мы с Бектемиром взапуски хохмили и угорали, глумясь над поддельной роскошью дворцовых нравов Ашхабада, где царствовал тогда Ниязов. Он там развёл тогда такой густопсовый падишахизм, что даже его коллеги по СНГ в голос прикалывались (Кажегельдин, к примеру, называл его СуперМурадом). Вот мы и тешились, как черти, ядовито выспрашивая у несчастной Джинет, не запамятовала ли она клятву верности, с которой должен начинаться и заканчиваться каждый божий день всех туркмен? И правда ли, что Туркменбаши, выслушивая доклады министров, снимает обувь, носки, складывает босые ступни на край стола и, постанывая от кайфа, шевелит пальцами, унизанными перстнями величиной с крупного шмеля? И, разумеется, выясняли, заметно ли глазу движение золотого идола, который, подобно подсолнуху, вращается вослед светилу? Джинет смиренно внимала нашим буйным экзерсисам, но однажды твёрдо и ясно рубанула: «Мальчики. Вам просто повезло. Этот истукан прошёл мимо вас. Но, уверяю, если он к вам нагрянет (а он нагрянет), то вы с ума сойдёте, обнаружив себя в хоре, блеющими хвалебные гимны. И будете целовать краешек его бронзового ботинка. Будете, мальчики!».

Ух. Тут мы и стихли.
2
В показательной роте Сибирской дивизии учили нас на младших командиров. Взводный, старлей Барыжной, выражался красочнее. «Крокодилы восьмидырые! – зычно орал он, вращая глазенапами. — Приехали за лычками? Вешайтесь!» И свирепо гаркал: «В ружьё!». Через мгновенье тревогу отменял и выгонял нас на спортгородок, где под снарядами был насыпан мелко колотый кирпич. Его следовало каждый час собирать и укладывать заново, чтобы проходивший мимо генерал был доволен.
Взводного не боялись, он был немастёвый, разжалованный за какую-то пьянь офицеришка, обречённый чалиться на учебке до собачьей старости. Он вообще мечтал свалить из армии и устроиться в ГАИ.
Боялись – до судорог – ротного старшину срочной службы Рахимыча, маленького, чёрного, с бешеными гляделками и крупными, как у лошади зубами. Его заметно страшился даже ротный командир Лещук, тот ещё изувер. Он обращался к старшине с ядовитой вежливостью, по имени-отчеству, но бздливо: Эмиль Газинурович.
Рахимыч, собственно, особо и не лютовал, но, косолапо ковыляя вдоль шконок, где на табуретах тоскливо хохлились курсанты, ожидаючи построения, вдруг останавливался, чуток приседал, растягивал рот в гримасе, отсвечивая рафинадными клыками, и, как дракон, исторгал из себя огнемётный выблев власти: «Ы-ы-ы!». Бойцы вскакивали, как в задницу ужаленные, и застывали сусликами, а дневальный истошно орал издалека: «Рота, смирно!». И Лещук, попусту выбегая из своей кондейки, материл дневального за незнание устава, давал ему доброго поджопника и добавлял пару нарядов вне очереди, а старшину как бы и не видел совсем.
Этот Рахимыч был природный волчара, хотя и недомерок. Командиры отделений и замки́ были боровы с налитыми плечами и кувалдами вместо кулаков, они этого чернявого шибздика могли мизинцем удавить, а вот фиг вам. Он их, впрочем, тоже не задирал, кроме одного, поганенького и мозглявого младшего сержантика, видом – москаля москалём.
Звали его – Бочкарёв. Это был милый юноша с пухлыми губами, возмутительно румяными щеками и фигуркой, отдалённо напоминавшей женскую. Старшина, встречая его в казарме, начинал крупно трястись, изрыгая звериный вопль, в котором было и бешенство, и горестное недоумение – как вообще могло появиться в армии столь несуразное существо? «Бочкар-р-ё-в!» — трубил он, как раненный слон, и, казалось, вот-вот затопчет хромовыми сапожками несчастного задрота, который, не дожидаясь беды, едва ли не на четвереньках улепётывал в каптёрку соседней роты, где зарывался в гору грязных портянок и, рыдая в голос, молился, чтобы мама родила его обратно. Бочкарёв не гонял своё отделение по плацу, а на стрельбище уходил с глаз долой в дальнее оцепление, а в столовую пробирался вместе с дневальными и торопливо давился баландой, пока старшина не приведёт роту. Ему лишь разрешали по воскресеньям водить на самые грязные работы сборную команду штрафников. Обычно это была или стройка, или овощехранилище, или вокзал, где мы таскали из вагонов мешки с цементом. С ним было по кайфу, он не орал, работал сам и часто объявлял перекуры, во время которых точил вкусные лясы про гражданку. Мы к нему липли, как цыплята к заботливой курице. Он был тёплый такой, человечный.
Однажды в бригаду залётчиков попали два бандита. Егорычев и Энс. Их от тюрьмы спасла только армия. Бочкарёв в тот день вспоминал какой-то московский театр, где на входе стояли не контролёры, а матросы с винтарями, нанизывая билеты на штыки. Говорил, что там работает сам Высоцкий, которого он видел живьём. Егорычев чуть поодаль сидел на кортах. Дослушав про Высоцкого, он шумно выплюнул погасшую беломорину, поднялся, подвалил к рассказчику, загребая сапогами, туго запахнул бушлат и вдруг хлопнул его с размаху по плечу широкой, как совковая лопата, ладонью. И прогундосил на блатной манер:
— Ты, пёс, ты не дубак, мы тя уважаем, только не надо ху-ху гнать, понял? Высоцкий ни разу не клоун, он зэк законный, у него три ходки по малолетке, и две по крытке. За базар отвечай, чмо!
Сгустилась тишина.
Бочкарёв поднялся и завис, охреневая. Но пролепетал, дребезжа зубами и путаясь в словах, как в соплях:
— Вы какое это право не по уставу обращаться имеете, товарищ курсант? А если рапорт напишу, а?
— Сосульку на. Пососи, потом написи, — снисходительно наглел Егорычев, дурашливо коверкая говор. – А телегу старшине отдай, он тебя на свой кожаный ножик насадит, а рапортом твоим потом подтерётся, понял?
Тут некоторые сдавлено захихикали, а Энс незаметно пристроился на карачках позади Бочкарёва. Хулиган слегка тюкнул сержанта кулаком в грудь, тот и завалился навзничь, смешно ойкнув и взмахнув по-бабски руками. Сидел на заднице, скрёб ногтями башку и выл тоскливо: «Я же по-человечески хотел, по-людски. Крокодилы вы все! Восьмидырые!».
Ух. Тут мы заржали!
3
Ну, вот. А вокруг все трындят, озирая новый состав правительства: ну, где они, эти новые лица? Где министры-капиталисты, которые молоды да речисты? Вот они. Все из нашей роты. Из нашей школы. Из института. В общем, парни из нашего города. Из нашей страны. Из шестой части обитаемой суши. Откуда им ещё взяться-то? Имеем тех, кого имеем. А они нас.
А Герхард Шрёдер и Йошка Фишер в 2005 году громко свалили из большой политики и тихо расползлись по разным дорогам, которые иногда совпадают с газовыми трубопроводами. Шрёдер развёлся в четвёртый раз и готовится к пятому браку.
А в 2006 году, в день рождения Сталина, Туркменбаши беззвучно помер во сне. Ожидалось, что страна покроется тектоническими трещинами раздоров, однако ничего такого не произошло. Новый президент сослал золотую статую на окраину города, а чуть позже в центре Ашхабада и ему воздвигли памятник. Только не пеший, а конный. Он тоже покрыт сусальным золотом и стоит на 25 метровом мраморном пьедестале. Весь тираж священной скрижали «Рухнама» изъяли из библиотек, вместо неё завезли в изрядном количестве книгу второго президента: «К новым высотам прогресса». А в остальном – всё по-прежнему.
А старлей Барыжной всё же дал тягу из армии и поступил в ГАИ. Я его на алматинском перекрёстке однажды встретил. Стоит себе, полосатым удом помахивает, добычу стережёт. Спрашиваю, как, товарищ командир, живётся вам? Отвечает: «Эх! Тех же щей, да пожиже влей. Мне бы в финики попасть. Да сам знаешь, какие там крокодилы восьмидырые сидят!».
Такое вот у него присловье. Восьмидырые это понятно, я сосчитал, всё верно. Но почему крокодилы?
Вроде, глупость, а точнее и не скажешь.
***
© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.