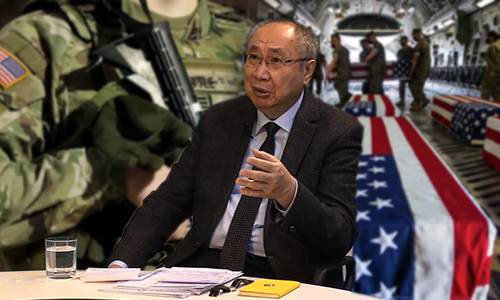1
О, Танненбаум, о, Танненбаум,
Ви грюн зинд дайне Блеттер!
Ду грюнст нихт них нур ин Зоммерцайт
Найн аух им Винтер, вен эс шнайт.
В последней строчке ритмический сбой, его вытягивают пением.
Марципановый привкус бюргерской немецкости, её сдобный рождественский дух – печной, зольный, душный, сытный. Её особое, потаенное словечко — Gemütlich. Гемю-ю-тлихь. Уютно.
Пироги, кухонные выползни, их так и зовут – к-у-ухен.
Я их недолюбливал. В русском пироге начинка, а в немецком пружинит пещеристая мякоть-обманка. Начинка на верхней кромке. Ри́вели — сладкие шарики из муки и топлёного масла, присыпанные прахом сахарной пудры. Дети их отгрызали, а плоть ныкали под край тарелки, получая за это подзатыльник. Потсатильникь. Я не получал, потому что честно жрал всё.
Рождества не праздновали. Не знаю, почему. Гросмутер моя была убеждённая безбожница из протестантов.
А вот Новый Год — на всю катушку. Мутно дрожащий холодец в банной шайке, кровавые сгустки винегрета в полковой миске, пельмени, как молодые барашки, и один с густо-густо перчёной начинкой, «счастливый». Бабушка приготавливала немецкие кушанья, я от них воротил рожу. Штрудели – роллы из теста. С варёным картофелем. Брр. У матери была скверная манера сюсюкать с едой: мяско, сахарок, маслице, хлебушек, чаёк, молочко. Оньк-еньк, ушк-юшк, ласкательные суффиксы голодного детства.
2
Я впервые оказался заграницей в 90 году. В Бонне. Отель «Президент». Мой номер был мансардный, с покатым потолком, с огромным траходромом, зовущим из памяти звериное непотребство похабных фильмов – я-а, я-а, даст ист фантастишь! Познакомился с казахом из Турции, он стажировался на Deutsche Welle. У меня был флакон «Столичной», мы его раздавили и пробухтели всю ночь. Говорили по-немецки, он русского не знал. Знаешь, сказал боннский казах, я никогда не поеду на родину. Я встречался со своими соотечественниками. У них самое любимое слово «завтра». Или «потом». Мне кажется, у них не будет никакого завтра.
На обратном пути, в Берлине, Михаэль Гастгебер, тучный доктор с черепом Сократа, привёз меня на Курфюрстендамм к огромному торговому центру, который я узнал – там шлялся Мимино, ища зелёного крокодайла для Фрунзика Мкртчяна. Погуляй, посмотри, сказал Гастгебер, только прошу: не ходи в гастрономический отдел.
Странно.
Я в этом ТЦ заблукáл тут же. Вдруг оказался среди дикого количества дамских трусов, смахивающих на призрачных чаек, и прозрачных бюстгальтеров, ещё хранящих млечное тепло девичих грудей. Дасистфантастишь угрюмо заворочался в паху. Тьфу. Откуда-то сильно потянуло хавчиком, пошёл по запаху, как пёс отощавший.
И вот оно.

Открылась громадная зала с высоченными сводами, мрачно и густо, по-рембрандовски подсвеченная, и отовсюду таращилась исполинская жратва – ке гран тю-а! Коровы и быки с взрезанными брюхами покачивались, освежёванные, вздёрнутые на пыточные крюки; вкруг них бродили усатые мясники в хирургических колпаках и, фарфорово улыбаясь, скрещивали, скрежеща, гладиаторские орудия свои. И было там только что испечённое кабанье семейство — от матерого борова с отсеченной главой, от бегемотистой свиноматки с тысячью сосцов — до новорожденных поросят, бессмысленно лыбящих беззубые рты, в которых вставлены пучки петрушки. И висели там неисчислимые, как патроны на войне, сосиски-сардельки, прыскающие горячим жиром. И гигантские, как пожарные рукава, колбáсы, туго набитые жареной кровью, салом, крупами и чесноком; и чудовищные омары с кусачими клешнями, ещё живые, лупоглазо пялились из аквариумов. И твёрдые, как самшит, морщинистые, как сушёный хер моржовый, сервелаты, тронутые благородной патиной плесени, свисали гроздьями. И сочились христовой слезой рассеченные надвое сырные круги с лунными кратерами, лакомо поблескивали терриконы зернистой икорки, и смородиновая картечь красной икры бесстыже светилась. И запахи горячего деревенского хлеба из печи — вперемешку с ароматом едва смолотого кофе, и сладострастная, как одеколон дешёвой шлюшки, ваниль, и марципановая отрыжка кариесного немецкого бюргерства.
Ке-гран-тю-а!
Я ходил вдоль рядов и слезоточил, как травленый ипритом. И громко, во весь голос повторял одну лишь русскую мантру, состоящую из неприличного глагола прошедшего времени, притяжательного местоимения и существительного мать. Было зверски обидно за свою страну, за людей, и стыдно за тамошние прилавки с морской тиной и уксусом.
Глагол-местоимение-мать!
Я вышел, зарёванный, у входа встретил меня Гастгебер и сказал с мягкой укоризной: я же просил, не ходи туда. Это всё появилось на моих глазах, добавил он, и мне за это стыдно…
3
Рождественское застолье лишено драматургии. Поели-попили-разошлись. И то сказать, час рождения Спасителя спорен, день и месяц тоже. Как, впрочем, и год. Католики кое-как сошлись на 25 декабря, а православные, увязшие бородищами в юлианском времени, празднуют на две недели позже. Чуднó.
В Рождестве главное не пир, а томительное ожидание праздника. Адвенты.
У меня нет умильного трепета от созерцания восковых персон Священной истории. Я нахожу этот паноптикум ярмарочным, спроворенным для простаков. Какие-то вертепы, какие-то ясли. Детский сад. Такими сценками уставлены искрящиеся, полыхающие фейерверочными бликами, шипящие, как стейки на гриле, рождественские базары Берлина, где тянутся бесконечные ряды киосков, мастеровито вырубленных из свежего дерева цвета коровьего масла. Они умело подсвечены изнутри, и слýжки в колпаках, торгующие шкворчащей снедью и кипящим глинтвейном, тоже похожи на домочадцев Святого Семейства. Но, сдаётся мне, что жрущая-пьющая толпа, плотная, плотская, тугая, как начинка ливерной кишки, менее всего озабочена днём рождения приёмного сына плотника Иосифа.
Ей-богу, Христос здесь – не при делах.
4
Матфей и Лука в своих Евангелиях повествуют о Рождестве, а Марк с Иоанном помалкивают. Матфей упоминает о нём скороговоркой, а вот Лука драмодел знатный! Натуральную мыльную оперу сочинил. Он и Захария приплёл с Елисаветой, сделав их родителями Предтечи. И пустобрюхую допрежь Елисавету с Марией познакомил, а та хоть и в браке жила, но родить не чаяла, ибо мужа своего, Иосифа, ни разу «не познала», как деликатно уточняет автор. Чуднó!
Волхвы в Евангелиях безымянны. Лишь в средневековые времена выяснилось, что они не просто колдуны, но и «цари». Те ещё были лазутчики. Пронюхали, что Младенец явился на свет и тут же приплелись к Ироду, невинно о том насплетничав. Тот запаниковал и отправил их в разведку – вот они и явились в Вифлеем со своими дарами. Отметились и смылись от греха подальше. Ирод, беснуясь, устроил зачистку, а Иосиф, взяв в охапку семейство, свалил в Египет. Там и отсиделись до срока. Политические беженцы, как ни крути.
5
Я листаю Библию со времён студентства, но христианином не стал, не суждено. Это не мешает мне услаждаться её чтением. Тяготею больше к Ветхому Завету, он великолепен! А вот в Евангелиях то и дело спотыкаюсь о досадные непонятки. Уже запарился доказывать, что фраза из Нагорной проповеди – «блаженны нищие духом» — истолкована превратно. В ней «нищие» не качественное прилагательное, а существительное, равнозначное по смыслу слову «бедняки». Тогда всё сходится.
Впрочем, всё это уже не важно.
Христос не при делах.
Ибо вся твердь земная — с золотом, смирною и ладаном — давно поделена между хищными царями: Бальтасаром, Мельхиором и Каспаром. Кого хотите, того и угадывайте за этими масками.
А я всё тужý по тем пастухам, которые первыми узрели в небе звезду и явились поклониться младенцу, возлежащему в яслях среди ягнят, телят и козлят. И, поклонившись ему, тут же исчезли они.
И мнится мне, что были те кроткие пастыри — праотцами пастухов нынешних, обитающих в Пустынной земле, из которой я бежал, ожесточаясь сердцем. А они всё бродят по невидимым тропам своим и раздирают очеса, тщась уловить в мглистых небесах блики своей звезды, и не узрят их никак. И к царям земным снаряжали посольства, ища мудрости в их посулах, но надругались над ними бальтасары, мельхиоры и каспары, отнявши у малых сих животворный елей, сочащийся из недр каменных, оставив взамен пригоршню грошиков. Из них отлили они тельца, почитая его золотым. И оттого сделалось в Пустынной земле изрядное смятение, ибо соблазнились иные из них изобильными яствами, а другие, обделённые хлебами и рыбами, возроптали, извергши хулы свои небу, вопрошая: где звезда наша путеводная?
И се есть глас нищих, вопиющих в пустыне, блаженной духом.
А Ирод, усмехаясь, всё пирует в роскошном дворце, тревогу вином заливая, но чёрные буквы на белой стене черти́т уж рука роковая.
Да что толку, ведь Спаситель так не народился.
И завтра никак не наступит.
Но есть и хорошая новость: эта затянувшаяся ночь, puttana sporca, всё же уходит.
O, Tannenbaum! Das ist fantastisch!
***
© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.