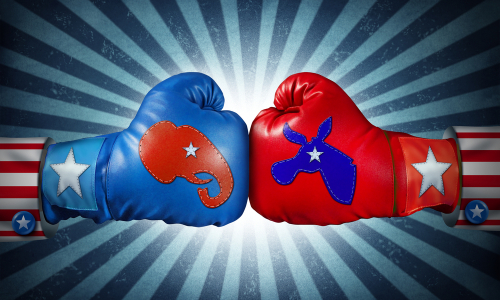1
В душном паху азиатской окраины, где догадал меня чорт родиться с душой и талантом, кинотеатров имелось три — один из них щеголял фальшивыми колоннами, подпиравшими портик, более похожий на голубятню.
Назывался «Родина».
А в городском парке «Голубой Дунай» высилась испачканная известковыми потёками крутобёдрая девка, водрузившая на гипсовое плечо асбестовую корзину, набитую каменными яблоками и гранитным виноградом. Правой рукой она придерживала свою плодородную поклажу, а левой, отведённой в сторону, намекала на несбывшееся танцевальное движение, исполненное коровьей грации.
А больше ни хрена в том скверном городишке не было.
***
В отличие от типовых хрущобок, трёхэтажная Чума была как-то нелепо сплющена, к тому же задняя её стенка возвышалась над плоской крышей, а потому строение напоминало тощий баян, поставленный на попа клавишной доской кверху.
Противочумная станция, вот как всё это называлось.
Было недоумение: какая, к чёрту, чума? Разве что у собачат, да и то чумка.
Позже, угодив туда разнорабочим, я с изумлением обнаружил там могучую кучку чумарей, непостижимо образованных. Это были врачи, микробиологи, эпидемиологи, зоологи. Все с дипломами звучных университетов. Я тёрся меж ними и подставлял уши под разговоры, струящиеся пикантным запашком вольномыслия. Они выуживали по ночам из своих ВЭФов все вражеские радиоголоса, читали все толстые журналы, курили «Золотое руно», пили дармовой спирт и огребали огромные деньги, которые сами называли «чумовыми». Позже я догадался: это была разновидность шарашки, придавленная и обточенная тучными водами брежневского безвременья.
Помню их. Особенно врача Ханата Рахимова, исполнявшего треснувшим горлом Высоцкого хулиганские песни Юза Алешковского: «Товарищ Сталин, вы большой учёный. В языкознанье знаете вы толк. А я простой савейський заключёный, и мне товарищ серый брянский волк…».
***
Чумовая шарашка извиняла беспробудную чушь зачуханного местечка, но протрубила мне родина армейский долг. Отсверкивая синевой бритого черепа, я прыгал по этажам с бегунком в руке и встретил Полину Ростиславовну Бельскую, зоологиню с народовольческой спиной и крепко просоленной сединой, туго стянутой узлом на затылке.
— Володя, вы, кажется, читающий и думающий юноша. У меня для вас подарок. Вот.
Она протянула нечто, похожее на большую тетрадь, обёрнутую в пожелтевшую газету. Благодарно осклабившись, я хотел было снять обложку, но Бельская твёрдо остановила:
— Не здесь.
Дома, содрав подарочные покровы, обнаружил «Роман-газету» с портретом надутого дядьки, лоб которого был прорезан не то стоячей складкой кверху от переносья, не то глубоким шрамом.
«Один день Ивана Денисовича».
Имя автора было на слуху, но в моей памяти оно крепко связалось с фамилией другого смутьяна, академика.
Стал читать, но крепко застрял на первой же странице — слог был непроходимо вязким. Отбросил. Уехал служить.
Похмельная дорога упёрлась в створы железных ворот с красными звёздами. Они распахнулись, и слух потряс тарзаний вопль дневального: «Духи, вешайтесь!».
Началось.
Я был уверен, что живым оттуда не выберусь.
***
Вернулся через два года и один месяц, жара стояла калёная, но дембельский китель с фибровыми погонами и ворованными значками неохота было снимать. Сидел и прел в скрипучем креслице у книжного шкафа, сдвинув фуру с задранной тульей на затылок. Наблюдал, снисходительно щурясь, как суетятся домашние, накрывая домашними пирожками праздничный стол. И никакой радости. Пустота. Привычно протянул руку к полкам и нащупал «Роман-газету», она так и лежала поверх книжных обрезов.
Стал читать.
И — всё.
И объяли меня воды до души моей.
2
В китовое чрево солженицынской зоны я прополз сквозь вонючий линолеум своих казарм.
Там у них был Волковой, а у нас старлей Барыжной: кривая оглобля в обсморканном кителе и сияющих хромачах. Пунцовая морда, натёртая кирпичом, и цинковые глаза садиста. Однажды задроченный дух, подгоняемый сержантскими поджопниками, налетел с разбега на Барыжного, ткнувшись ему головой в живот. «Воин! — изумился старлей. — Ты хто?». Солдатик судорожно представился: курсант Рудаков! Барыжной выдержал тупоголовую паузу и наконец изрёк: «Мудаков ты, а не Рудаков!». И залаял собачьим хохотом. Его списали из внутренних войск и приткнули в нашу учебку взводным. В подпитии он выл куплеты из конвойного отченаша: шаг влево, шаг вправо, открываю огонь без предупреждения! И называл нас «крокóдилы восьмидырые».
***
В учебке я тоже, как Шухов, просыпался до подъёма. Это было самое жуткое время, когда тоска по дому приливала до самого горла. И сколько раз сквозь сопли и слёзы давал слово, что на боевых стрельбах шмальнусь. На хер такую жизнь, на хер. Лучше дисбат за самострел или вообще цинк.
Без четверти шесть в спальное помещение прокрадывались снулые дневальные и будили отделенных: «Таащ сержант, таащ сержант…». Те лягались, ровно жеребцы, прятали бошки под подушки и оттуда скороговоркой хрипели: «Пшёлнах, дух, пшёлнах!». Радио спросонок прочищало горло — кхрк-крр. Бойцы, что похитрей, тянули с табуреток галифе, пытаясь натянуть их под одеялом, а пробудившиеся сержанты, шумно отхаркиваясь, зорко пресекали манёвр: «Эу, воин, што ли, самый умный?».
Без пяти шесть будили замкомвзода, он просыпался легко, скидывал волосатые ноги на пол, пристукнув каменными пятками, и сладко потягивался, разинув до хруста железнозубую пасть. И тут со всей дури обрушивался государственный гимн, и сквозь его дикий набат еле-еле слышались цыплячьи писки дневальных: «рота-подъём-строиться на зарядку — форма два!». А ещё была «форма раз, трусы-противогаз». В ней играли в подъём-отбой. Те самые 45 секунд. Это не так уж мало, но почти никто не укладывался. И был ещё норматив — пока горит спичка. Туши свет.
***
Гулаговские зэки тырили в столовой лишние порчуги — ох, знакомо! Называлось пойти на заготовку. От каждой роты по шесть бойцов, то есть по два от взвода. Арочное окошко раздатки, в ней сальная будка повара, отёкшая, недоверчивая. Сверяет со списком, начинает выдавать. Баланда на каждый стол, ушки котла раскалённые, их прихватывают, обмотав пальцы полами гимнастёрки. Три на взвод, арифметика простая, да этот подсоленный кипяток, пованивающий мылом, всё равно никто жрать не будет. Главное — второе. Железные миски, в них горка квашеной капустки, слегка притушённой, и хвост от хека. Изо дня в день. Из месяца в месяц. И нужно смухлевать, задурить голову повару, а она у него и без того задурённая, он матерится, пересчитывает, но всё равно нет-нет да лопухнётся, вывалит разводягой лишнюю порчугу, а её ещё нужно загасить в укромный уголок, а когда взвод причапает, незаметно передать бойцам, а они уж столовой ложкой по молекулам разделят. Буханки у хлебореза, он их тоже по списку дербанит, но и там можно выклянчить обрезков, а если он знакомец или земляк, то вообще лафа, ещё и корок жжёных подкинет.
От нашего взвода на заготовку Витюня ходил, кличка Ляпа, здоровый такой бугай, но роста ему не хватало полтора сантиметра, чтобы двойную пайку получать. Маялся.
А во втором взводе был воин, который с параши жрал. Параша — дюралевая выварка, куда скидывали остатки и объедки. А за тем, кто есть очищал миски, фарили все. И вот этого духа со второго взвода однажды прищучили, он оттуда ел. А это — не дай бог. До дембеля чморить будут. Звали его, между прочим, Миша Лермонтов. И похож был.
Хлеб — черняга, кислый, мокрый, и выходило на брата по половинке куска, да ещё четверть кусочка сверху, а на стене плакат с нормами довольствия и подписью министра обороны. По эти нормам, в день почти килограмм на рыло полагалось, но черняшки давали на один зуб, а белого не было никогда. Забыли, как выглядит. Только однажды, когда приехали проверяющие из Москвы, нам выставили стеклянные стаканы, и мы от этого блеска чуть не ослепли. И хлеба белого вволю. И мы его за шесть секунд смололи. Полкан московский в золочёных очёчках ходил по столовке, вздыхал, крутил башкой и орал: «Дневальные! Хлеба дополнительно!». Жрали, пока всё не подмели, и чёрный тоже подъели, а потом за баланду взялись, она в тот день была густая, на рыбных консервах и с картофаном, наваристая, а на второе овсянка на сале и сладкий компот. Чуть не сдохли потом. Обожратушки.
Комиссия урыла в Москву и командиры объявили: «Кончились дебаты, начались *баты!».
По-разному они нам вставляли.
В солженицынской зоне имелся БУР, барак усиленного режима, а у нас была кича, гарнизонная губа, там подполковник Гитлевич лютовал по самое не могу. Была дорожка, усыпанная гранитным щебнем, по ней воины ёрзали утром и вечером тремя способами: по-пластунски, лёжа на боку и на получетвереньках. Гитлевич ничего не придумал, такие передвижения были прописаны в Строевом уставе Советской армии. 70 метров — столько же секунд. Почти никто не укладывался. Локти и колени бывали сбиты до костей. Пацаны сбрасывали за неделю по пуду живого веса, иные резали вены бутылочным стеклом, иные глотали хозяйственное мыло, блевали бешеной пеной, но Гитлевичу всё было пох.
3
Спокойно, товарищ, спокойно. Это не мрачные времена произвола и беззакония, это сытенький, тупенький брежневский социализм. Ничего особенного, просто дивизионное начальство воровало в три горла, внаглую. Выходишь из столовки и уже мечтаешь о завтраке, потому что там будет двадцатиграммовый цилиндрик сливочного масла. Его по черняшке не размазывали, как на гражданке, его насаживали на спичку, типа эскимо, кусали мелко-мелко, по-мышиному, и каждый граммчик плавился на языке, стекал в самое нутро, которое сводило судорогой звериного наслаждения.
А мясо вредно, от него ноги мёрзнут! Так хохмили прапора продовольственной службы, главные ворюги. От мяса у бойцов по утрам крепкий стояк — одеяло сползает с ног, вот они и мёрзнут!
Ни хрена они у нас не мёрзли.
***
Между зоной Солженицына и моими казармами расстояние в 25 лет, а по километрам и того ближе: в/ч 24551, где я гнобился, и Особлаг №11, где он припухал, рядом. Одно небо, одна степь. Те же запахи, те же звуки, тот же зимний зусман кусачий, тот же июльский зной колючий, та же тощая, скулящая, воющая тоска без края и конца.
И время одно. Оно никуда не ушло. Оно стоит на месте. Это мы сквозь него продираемся и вязнем в нём, и остаёмся в нём навсегда и навечно, как мотыльки в окаменевшей смоле.
***
Я не меряюсь скорбями ни с Александр Исаичем, ни с Варламом Тихонычем, ни с кем-либо ещё. Мои армейские стигматы — тьфу и растереть. Подумаешь, претерпел. Ну, да, в баню водили раз в месяц, своей не было, а потому в четыре утра подъём и марш-бросок в городскую, она ещё стылая, вода чуть теплая, на полу рассыпана хлорка, как снег, ступни жжёт, горло дерёт. Старшина брус землистого хозмыла на кубики порубил, в хлорку закинул — налетай! Время помывки 15 минут, успел-не успел, не колышет. Бегом, дух, в ледяной вестибюль, где сидит царь и бог, каптёрщик, он швырнет тебе нательное бельё, и тут никому не повезёт: кальсоны будут малы и штрипки у них оборваны, и на гульфике пуговиц нет, а портянка попадётся ветхая и размером с носовой платок, ступню её не обернёшь, и самые борзые пробуют хныкать, выпрашивая замену, а очередь из синюшных пацанов, прикрывших ладонями съёжившиеся от холода пипки, начинает бухтеть — эу, самый умный, што ли, падла? Лопай, что дают!
***
Да ладно, фигня война, главное, манёвры. У каждого, кто тянул службу, есть запас таких воспоминаний, а то и похлеще. Мне мои пригодились не для дембельского альбома, не для девичьих ушек, чтобы потчевать их в перекурах между неутомимыми трахами.
Я с помощью этого пин-кода прочитал «Ивана Денисыча».
Файл открылся.
4
Повесть Солженицына ставлю на одну полку с «Божественной комедией» Данте, но кладу её, ветхую, романгазетную, сверху, плашмя, прямо на верхний обрез крепко сбитого томика сумрачного флорентийца, при виде которого современники в ужасе перебегали на другую сторону улицы, шепча: «Он был в Аду…».
«Денисыч» тоже дорожная карта Преисподней. Но вместо Вергилия проводником там пашет Иван Шухов. Через него прочувствуем всей шкурой, через все свои жилочки пропустим каждое мгновенье этого бесконечного дня, от подъёма в половине пятого утра — до отбоя ближе к полуночи. И, засыпая, сунув ступни в рукава ватника, робко уверуем, что Бог, может быть, есть. Потому что не дал замёрзнуть, когда природа-мать высрала тебя, икринку лягушачью, куда попало, и ты черепашонком докарабкался до морской пены и нырнул в неё, и не был проглочен кистепёрыми исчадиями. Так и проживёшь, сколько доведётся, и растворит тебя царская водка времени без остатка: ни имени не станется, ни номера на лагерном бушлате.
А Шухов будет долго. Может быть, вечно.
Глеб Панфилов сделал из Шухова кино. Оно уже идёт по России. Режиссёр там что-то досочинил, переписал. Я не буду смотреть «по мотивам». Не хочу.
Нет больше кинотеатра «Родина». И крутобёдрой девки с каменной корзиной на плече тоже нет. Я думаю, она вышла замуж за гипсового вертухая с ППШ на груди, я его видел в Спасской зоне, где был когда-то инвалидный лагерь. Они бы хорошо смотрелись рядом. Возможно, от них я и родился.
Не буду смотреть панфиловский фильм. Механик, туши свет. Отбой, пока горит спичка. А рецензию я успел накарябать, и она какая-то чумовая получилась.
Уж не взыщите.
***
© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.