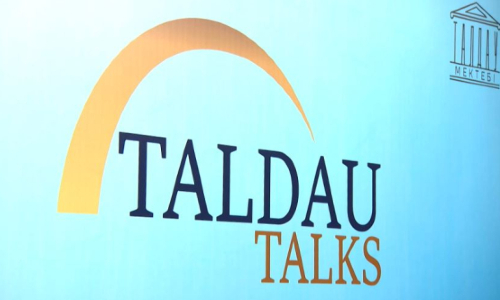– Сергей Борисович, давайте на этот раз обсудим вопрос, который многие считают провокационным. Он и в самом деле такой, скользкий. Но нам ведь хочется понять, что происходит на свете и что ещё может произойти. А что не может. Итак, допускаете ли вы вероятность российской СВО в Казахстане? Теоретическую вероятность. При самом неправильном развитии событий.
Вокруг этой темы много спекуляций. На ней пиарятся. Её подбрасывают враги. Но война с Украиной тоже казалась бредом и фантастикой.
– До сих пор такой кажется, хоть и длится третий год. Чтобы не потакать, однако, провокаторам, давайте мы в первую очередь с терминами разберёмся. Специальная военная операция – это кратковременные силовые действия, проводимые сильной доминантной державой на чужой территории ограниченным контингентом сил быстрого развёртывания. СВО потому и не война, что не предполагает массовой мобилизации, перестройки промышленности, создания специальных стратегических резервов и многоуровневой логистики, а также сражений фронтами, долгих и масштабных боевых действий на суше, море и в воздухе.
Классическими СВО были действия Советского Союза в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. А также вторжения США в Гренаду в 1983 году и в Панаму в 1989 году. Краткосрочные, идеологически мотивированные операции, которые были направлены на предотвращение нежелательных для Советского Союза или США политических изменений в союзных для них странах.
Сплошь и рядом, однако, в истории бывало так: держава начинала СВО с целью предотвратить смену власти в значимой для неё стране или утвердить желаемую власть, но предприятие затягивалось, разрасталось, превращаясь в результате в долгую экспедиционную войну. Это уже другое дело. Для таких войн формируются экспедиционные армии с полным набором вооружений, тыловым обеспечением, воинским набором.
Экспедиционные войны вёл Древний Рим, отправляя легионы в Египет, Карфаген или Британию. Мы с вами видели уже в наше время экспедиционные войны США во Вьетнаме (1964-1975 гг.) и Афганистане (2001-2021 гг.), а также военную экспедицию Советского Союза в Афганистан (1979-1989 гг.). После введения в РФ мобилизации с сентября 2022 года спецоперацию РФ в Украине, – на мой взгляд (и по канонам науки), – следует считать экспедиционной войной.
– По этой вашей классификации – «краткосрочные силовые действия на чужой территории» – можно отнести к СВО то, что войска ОДКБ проделали в Казахстане в январе 2022 года.
– Совершенно верно. Я как раз к этому подходил. В январе 2022 года на территории Казахстана была проведена именно она – специальная военная операция. Союзные силы стран ОДКБ действовали по запросу законного правительства и в пределах предоставленных им временных полномочий. Главные задачи решались Россией. По счастью, без боевых действий. Достаточно оказалось присутствия и прямого проецирования силы, а с остальными задачами руководство Казахстана справилось самостоятельно.
– С январём 2022 года всё более или менее понятно. Легитимный президент Токаев попросил помощи у союзников по ОДКБ. Он, наверное, преувеличил участие в казахстанских беспорядках иностранных врагов (кто-то утверждает, что Токаев вообще их придумал), но, так или иначе, ОДКБ ввела войска, чтобы спасти законную власть. В Чехословакии в 1968 году было по-другому. И тем более с Украиной сейчас по-другому. Так вот: возможно ли сугубо российское вторжение в Казахстан? Без приглашения от хозяев.
– С какой целью? Я уверенно исключаю со стороны России имперскую экспедицию в Казахстан с целью отторжения территории, а также войну колониального типа – с целью установления московского протектората. Обе цели бессмысленны и разрушительны. За плечами у России более чем достаточный опыт трёх империй – Московской, Романовской и Советской – с 15-го по 20-й век включительно. После катастрофы советского проекта Россия слишком хорошо знает, как губительно имперское сверхобременение, как можно фатально истощить себя и надорваться.
Но есть другая сфера риска, где поводы для СВО теоретически могут появляться. После распада Советской империи Россия отступила на полторы тысячи километров к востоку и вывела из Европы более чем миллионную группировку войск. Однако расчет Москвы на равноправное участие в строительстве новой системы коллективной безопасности не оправдался. Военный блок НАТО, презрев все обещания не расширять зону контроля, двинулся следом на восток с намерением обосноваться в Крыму и на Днепре. Все мирные призывы из Москвы остановиться и серьёзно поговорить оказались тщетными. Последовал вооружённый отпор. И теперь этот навеки памятный опыт на крови будет, судя по всему, доктринально консолидирован.
Есть основания полагать, что Кремль с учётом опыта в Украине готовится установить и в дальнейшем защищать (в крайних случаях с помощью СВО) не только свои конституционные границы, но и сферу влияния вблизи своих границ. И готов платить за эту зону «необходимой безопасности» серьёзную цену.
– То есть вторжение с имперскими целями невозможно. А с целью защиты сфер влияния – не исключено.
– Были попытки пропагандистски объявлять «сферы влияния» устаревшим понятием из 19 века. Не получилось, ежедневная практика этому противоречила. Сферы живут, потому что нужны, но содержательно со временем меняются. В 19 и 20 веках Великие державы имели слишком широкую свободу распоряжения в подопечных странах – кому быть у власти, какое иметь государство, как хозяйствовать, торговать, строить армию и воевать. Это продолжалось и после Второй мировой войны в ялтинско-хельсинскской системе. Ведущие сверхдержавы США и СССР молчаливо признавали: здесь ваши интересы доминируют над нашими, а там – наоборот; эти зоны открыты для вашего строительства социализма, а те — для нашего либерального капитализма. Вожди КПСС и их аппарат чутко отслеживали, чем дышат и живут «страны социалистического лагеря», суверенитет которых считался весьма ограниченным.
В 21 веке нужда в столь плотном административном или идеологическом контроле над сферой влияния отпала. Применительно к России, как я понимаю, речь пойдёт о том немногом, чего её соседям нельзя делать. Москва вполне вероятно попытается ограничить разумный минимум влияния правилом «трёх нет»: не приближать чужие военные блоки; не размещать иностранные военные базы и вооружения; избегать угрожающего, вызывающего и провокационного поведения.
Не приближай, не размещай, не угрожай. Звучит вроде совсем не сложно. Но в рамках этих трёх простых «нет» некоторые постсоветские государства почему-то не могут удержаться. Много лет развиваются кризисы в Грузии, Украине, Молдавии, идёт противоречивый поиск пути для Армении. Могут ли возникнуть проблемы, связанные с нарушением правила «трёх нет», в Казахстане? Я именно так интерпретирую ваш скользкий вопрос. Отвечаю: в ближайшее десятилетие это практически невозможно. Что будет дальше – железно поручиться не могу. Нельзя же напрочь исключить провокационное проникновение враждующих держав в «чужие» сферы влияния, чьи-либо попытки организовать в тылу у противника перевороты и геополитические трансформации в свою пользу. Порядок-то, увы, не скоро установится. А значит и новые СВО совсем исключить преждевременно. Хоть по просьбе, хоть без просьб.
– По правде говоря, я удивлён. Задавая свой в меру провокационный вопрос, ожидал, что Сергей Борисович Станкевич как миротворец и пацифист расскажет мне, что – нет, Казахстан это надёжный верный союзник России. Он застрахован полностью и навсегда.
– Да, Казахстан – надёжный и ответственный союзник России. Сегодня всё говорит в пользу такого утверждения. Хотелось бы надеяться, что это навсегда. Но мир вокруг нас живёт совсем не так, как хочется мне как демократу, миротворцу и христианскому пацифисту. Происходит много того, что я считаю нежелательным, немыслимым, катастрофичным и даже преступным. И всё это мне приходится изучать как стратегическому аналитику. Я не могу игнорировать реальность и объявлять нежелаемое недействительным. Вижу впереди долгую череду военных столкновений.
На наших глазах происходит реабилитация войны и даже её новое водружение на пьедестал в международных отношениях. Инструменты силы опять становятся нормой, а не какой-то аномалией или болезнью. Слишком много противоречий, которые политики сначала искусственно делают неразрешимыми, а потом под грохот пушек притворно разводят руками.
Сейчас во множестве стран серьёзные мозговые центры переосмысливают природу войны в 21 веке. Война снова считается законным инструментом в распоряжении правительств. И так будет, пока несколько Великих держав не договорятся полюбовно и не установят хотя бы на полвека новый миропорядок, способный разрешать конфликты без крупных войн.
– За последние 30 лет в бывших советских республиках успели отвыкнуть от словосочетания «великие державы».
— В иерархической классификации стран нет ничего обидного или дискриминационного. Страны действительно выстраиваются в пирамиду по их совокупной влиятельности, которая зависит от масштаба экономики, военного потенциала, численности населения, размера территории, её природного богатства и т.д. В международной политике не было, нет и никогда не будет никакого равенства. Творцов и хранителей миропорядка было и будет несколько. Огромное большинство стран издавна умеют встраиваться в великодержавные «миры» и «сферы влияния», использовать эту среду себе во благо, мирно развиваться и комфортно жить. Бывает, однако, и по-иному. В переходные беспорядочные эпохи в относительно небольших развивающихся странах второго-третьего эшелона появляются политики, которые считают, что они могут использовать историческую конъюнктуру – замешательство и хаос – чтобы совершить своего рода геополитический побег. Из одного союзного лагеря, одной сферы влияния перебежать в другую и перетащить туда же страну, в обмен на определённые выгоды. Для страны эти выгоды могут быть мнимыми, а для политиков – вполне реальными.
В эпоху долгого беспорядка такого рода соблазны гуляют повсеместно, в воздухе носятся. Державы-соперники исподволь готовят, провоцируют и спонсируют такие попытки «побегов». Удачных примеров мало. Чаще авантюры завершаются катастрофами.
– Причём, это никого ничему не учит. Грузинский пример ничему не научил украинских националистов. Сегодняшняя катастрофа на Украине, похоже, не стала уроком для Пашиняна.
– Хотел ли войны Михаил Саакашвили для Грузии? Думаю, что не хотел. Он экспериментировал с реформами, жал руки на Западе, и на Востоке, обещал со всеми дружить и сотрудничать. Но в какой-то момент его понесло. Он подумал, что может положить Грузию за пазуху и вместе с ней переместиться куда-то в высшие сферы заоблачного влияния. В итоге довел-таки страну до военного конфликта и полураспада. Сейчас Грузия постепенно эту тяжёлую историческую травму залечивает и преодолевает. В целом успешно преодолевает.
Думала ли Майя Санду, прорываясь в президенты, о благе для Молдавии? Наверное, да. Но вместо укрепления нейтралитета, вместо диалога и сотрудничества по всем азимутам зачем-то обостряет ситуацию внутри страны и по границам до рокового предела.
Сомнения по вопросам войны и мира, по выбору союзников и геополитической стратегии мучают и главу правительства Армении Никола Пашиняна. Поколебавшись, он всё же благоразумно решился окончательно закрыть конфликт с Азербайджаном, подписав договор о мире и границе. Дальше ему останется восстановить дипотношения с Турцией и всерьёз спокойно заняться подъемом экономики.
Гладя на жуткие кадры с линии украинского фронта, бесконечно себя спрашиваешь – как такое стало возможным? Хотел ли Владимир Зеленский войны? Я уверен, что совершенно не хотел. Мог ли её избежать? Несомненно. Он избирался в 2019 году с главной целью – завершить унаследованную чужую войну. Но потом его понесло. Он просто отбросил имевшийся на руках международный «мандат на мир», начал спешно и неловко впихивать страну в западные союзы, вовсе к этому не готовые. Обострил ситуацию до последней грани. В конце концов разразилась мучительная для меня лично война, длящаяся уже третий год. Как непомерно велика цена политических ошибок в наступившую эпоху многих войн.
– Президент Токаев заявил на днях, что не следует «бороться против русского языка». Некоторые страны пытались – сказал Токаев, явно подразумевая Украину – и мы видим, «что они имеют сейчас в результате».
Это заявление казахстанского президента очень понравилось в России. А в Казахстане понравилось не всем. Теперь от Токаева надо ждать каких-то гордых слов про казахский суверенитет. Для равновесия. После чего обязательно вознегодуют виртуальные российские патриоты. В общем, президенту РК не позавидуешь.
– Президент Токаев, безусловно, лидер… современный и своевременный. Удивительно подходящий к эпохе, которую переживает его страна. Говорю без реверансов и какой-либо личной мотивации. Я с пониманием отношусь почти ко всему, что говорит и делает президент Казахстана. Более того я считаю, что с ним происходит важное личностное развитие. Можно служить главой государства просто в качестве главного чиновника, временного техничного бюрократа, которого выбрали по утвержденной процедуре. Но не все формальные главы государств способны стать лидерами нации, то есть лидерами доверия и развития. Национальный лидер обладает влиянием, выходящим далеко за рамки формальных полномочий, предоставленных законом. Это человек с видением на десятилетия, с ответственностью перед историей, с долгой волей и мотивацией сформировать эпоху. Мне очень импонируют такого рода люди, и я вижу, как президент Токаев постепенно становится именно таким национальным лидером.
Мне кажется, он хорошо понимает, как важно не давать возможности примитивному этническому национализму, этому трайбалистскому средневековому варварству закрепиться в качестве важной политической силы. Если это какие-то этнографические кружки по интересам, если это какие-то маргинальные публикации, это вполне допустимо, потому что в живом обществе нельзя искоренить полностью такой тип мышления. Архаика должна присутствовать где-то на периферии и естественным образом отмирать или меняться. Но нельзя дать ей возможность превращаться в серьезную политическую силу, институционально закрепляться, потому что это повлечёт предельное упрощение и деградацию общества…
Темы в этой сфере все эмоциональные, на крике и пафосе, они могут зажечь и запутать многих: тема языка и религии, тема исторических обид, утраченного и вновь обретаемого «величия», тема антиколониального национально-освободительного вызова. Во времена всеобщей интернетизации весь этот парад мифологем и лозунгов способен удивительно быстро сбить с толку незрелые малообразованные умы. А потом превратить радикальные настроения в организованные экстремистские сети и массовые насильственные действия. А там и до СВО недалеко.
Развитие – это всегда усложнение и управление сложностью. Сейчас особенно важно это понимать. Развитие – это открытие максимального числа возможностей и мудрая дальновидная селекция. Для этого нужно многоязычие и многокультурие, постоянная открытость миру, нулевая внешняя конфликтность (в первую очередь – с соседями), правильное взаимодействие со сложившимися культурными мирами и общинами.
***
© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.