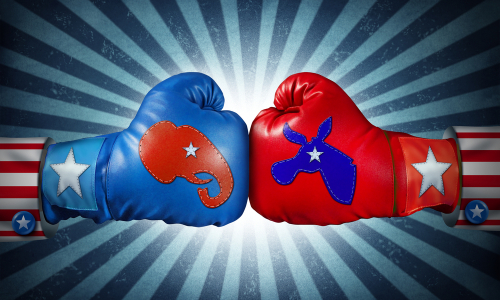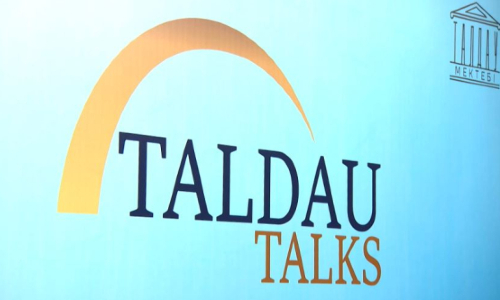Это было, когда сквозь просторы степей
Мы неслись, горяча своих сильных коней,
Топоры боевые из-под сeдел достав….
ШАЛКИИЗ ЖЫРАУ
Интервью с президентом продюсерской группы “Ел” Галымом Доскеном, при непосредственном участии которого, в бытность его первым руководителем государственной теле-радио-кампании “Казахстан”, было выпущено уникальное на сегодняшний день и практически полное собрание сочинений казахской традиционной инструментальной музыки на CD-дисках.
***
— В свое время, когда вышла монография “Кобыз и копье”, а также исследование “Бес ғасыр жырлайды” (“Повествуют пять веков”) Мухтара Магауина, для многих стало очевидно, что казахи являются наследниками самобытной культуры, которая начинается отнюдь не с создания Казахского ханства (1465—1466 гг.) чингизидами Жанибеком и Кереем (в другой транскрипции – Гиреем – Ред.), а уходит своими корнями гораздо дальше во глубину веков. А что, если эту историософскую проблему экстраполировать на традиционную культуру казахов? В том смысле, насколько она прослеживается во временном отрезке, и о чем можно сказать смело: вот это наше, казахское… Ведь музыку как мы воспринимаем? Пришел в зал Консерватории и слушаешь, допустим, первую фугу Баха или Первый концерт такого-то. А что мы имеем в этом плане, если иметь в виду нашу казахскую традиционную музыку?..

|
|
Галым Доскен |
— …Начну с того, что здесь можно явственно увидеть две крайности. Сам знаешь, Джанибек, в одну крайность мы ударились в советское время, когда принято было считать, скажем, что началом зарождения казахской литературы следует считать XVIII век. Таковы были штампы: профессиональная литература начиналась с Бухар-жырау, казахская музыкальная профессиональная культура – с XIX века – Курмангазы и Таттимбета. А что было до этого? Нам упорно внушали: до этого периода у вас был только фольклор. Получалось, что мы существовали как фольклорный народ – и на этом точка…
— А сегодня?
— Ну а теперь пошла вторая крайность! Это когда многие наши соотечественники, и даже ученые, начинают отсчет казахской истории из такой тьмы веков, что только диву даешься… Ведь тянут (другого слова и подобрать трудно!) корни традиционной культуры как минимум, из двухсоттысячелетней истории. Особенно это характерно для наших, скажем так, писателей. Они такие понятия как тысячелетие тасуют как игральные карты. Я думаю, и то, и другое неправильно, неверно, по сути. Когда мы начинаем говорить о казахской культуре, мы должны прежде понять, что это за культура? К какому типу она относится? И только потом, определившись по типу культуры, уже можно начинать речь о временных отрезках… А что касается вашего примера с “Бес ғасыр жырлайды”, то конечно же, совершенно ясно, что история казахов, даже если подходить к ней с точки зрения развития казахской традиционной музыки, отнюдь не вмещается в последние пять веков, если вести историю взяв точкой отсчета момент, когда Жанибек и Керей организовали собственную Орду на землях семиреченского Могулистана… Мухтар Магауин же прекрасно это доказал, исследовав изустные артефакты, жыры Шалкииза, Доспамбета и других титанов, записанные в том числе и европейцами, учеными мирового уровня, такими как Радлов и др.
— Мы говорим о музыке. А тут инструментарий замеров, по которым определяется тип культуры, каким должен быть? Современным? Сиречь — европейским?
— Для определения типа нашей традиционной культуры как раз таки, я думаю, ни европейский, ни вообще инструментарий письменной культуры совершенно не подходит – вот в чем дело. Это не парадокс. Я только один пример приведу: есть у нас великий эпос “Алпамыс”. Он считается одним из самых древних тюркских эпосов, потому что нечто подобное, общие мотивы встречаются у тех же каракалпаков, узбеков (у кочевых узбеков…), алтайцев – “Алып Манаш”, азербайджанцев — “Бамсы Байрак” и т.д. Получается так: есть некий эпический герой. И только, исходя из того, что он есть, мы начинаем говорить, что нашему эпосу – 2-3 тысячи лет. Ну, прочитал “Китаби Дадам Коркут” — огузский памятник, читал узбекский вариант, изучал каракалпакский вариант, то, что осталось в русском переводе; читал и переводил то, что осталось от оригинала — “Сказание об Алып Манаше”. И все эти версии такие разные! Там просто общие имена, но настолько разные сюжетные линии. Общего остается только основа, мифический сюжет – уход героя из дома, подвиги героя и возвращение…
— Сейчас мы говорим об Алпамысе?
— Да, я в качестве примера привожу… И, судя по лексике эпических песен об Алпамысе (что у каракалпаков, что у узбеков, что у казахов), весь слог, вся структура эпоса в его нынешнем виде были сформированы, скорее всего, где-то в XVIII веке. Но это не говорит о том, что этого памятника, этой эпической песни, этого сказания не было до XVIII века! Опять-таки здесь параметры какие? Культура казахов относится к типу кочевой культуры, эпической культуры. Эпическая культура никак не может быть просто сегментирована какими-то определенными отрезками времени. Вы понимаете? Есть некий сюжет или музыкальная тема, проходит век – вы продолжаете… что такое приоритет кочевой культуры? — вы продолжаете эту же тему. Но вы опять-таки привносите что-то свое в исполнение ли, в сюжет ли…
— Нотной грамоты не было же?
— Не было… Почему очень много у нас вариантов казахских кюев? У одного кюя есть, как минимум, пять-шесть вариантов. Потому что каждый исполнитель привносит в него что-то свое. Основа остается, но где-нибудь, в завершении произведения или в самой середине, появляются изменения. Поэтому такой момент есть, что все таки в кочевой культуре не было такого отношения: вот это наследие и мы к нему относимся как к наследию. Оно было, как бы, живым наследием, к которому постоянно все обращались, оно было постоянно используемым. Уже сотворенные кюи воспринималось как посыл для собственного творчества… Вместе с тем отношение к музыкальным вершинам было трепетное, сакральное, но, повторюсь, с которым можно общаться, которое можем изменять. И в этом смысле можно говорить, что наша культура – одна из древнейших культур, потому что отголоски древнего времени, древних музыкальных тематик, древних сюжетов можно обнаружить в каждом из наших музыкальных традиционных произведений, в фольклорных, эпических произведениях. Но сказать, что вот в таком виде это было создано в IV или XII-XIII веках – это просто невозможно. Взять даже знаменитый кюй “Ақсақ құлан”…
— Известная легенда!..
— И эта легенда гласит, что во времена Чингисхана жил гениальный найманский жырау Кетбуга, и именно он явился к великому хану сообщить ему о смерти его сына Джучи. А согласно приказу Чингисхана, всякому, кто принесет хану дурную весть, должны были отрубить голову или залить горло свинцом (там разные варианты). И вот Кетбуга приходит, берет кобыз и играет кюй, тем самым, сообщая хану о смерти сына. Тогда Чингисхан, поняв все, говорит: “Погиб мой сын Джучи, я должен тебя покарать!”. Тот отвечает: “Великий хан, не я вам сообщил эту весть, а кобыз…”.
— То есть это была игра не на домбре, а на кобызе?
— Да, это кобыз был. Но позже кюй был переложен на домбру, (но и кобызовый вариант тоже сохранился). Однако сказать, что вот этот кюй “Ақсақ құлан”, который мы знаем сегодня, тот самый кюй, который сыграл Кетбуга Чингисхану, в энное время в энном веке по хиджре или по григорианскому календарю, было бы большой ошибкой. Ведь что он сыграл, мы не знаем! Может быть, где-то какой-то похожий мотив в дошедшем до нас варианте есть, но даже предположить трудно сколько вариаций претерпел этот кюй, скажем, в том же XYIII-XIX веке, когда родились и творили последние титаны традиционной музыки.
— Тем более, мы можем только догадываться, каким был фактически эмоциональный накал этой истории… и на каком исполнительском уровне вообще это выдавалось?!!
— Разумеется! Разумеется, если мы определяем, что казахский тип культуры – это тип культуры кочевников, который в корне отличается по традициям, по сохранению, по передаче, по трансформации от европейской и вообще от письменной культуры, тогда мы должны согласиться с тем, что любое произведение кочевников никогда не остается как наследие. Потому что это произведение потом может видоизменяться, туда может привноситься что-то новое, так как люди живут этим произведением, не задумываясь о том, в каком веке оно было создано. Я не берусь утверждать, хорошо это или плохо, но это характерная особенность.
— А как в интерпретации Галыма Доскена, если, допустим, человек спрашивает: Галеке, мы прослушали некий кюй, а вообще, что такое кюй, и что он значит для казаха? Это, что, запись, своеобразный саундтрек, говоря современным языком таких вот историй, вроде “Ақсақ құлан”, сюжет который завязан вокруг того, как кулан погубил хана Джучи… или иное произведение, допустим, пусть будет какая-нибудь любовная история… что ЭТО?
— Если одним словом определить, очень коротко определить, то, скорее всего, можно сказать, что “кюй” – это инструментально-музыкальная пьеса. Небольшая по форме, играется три-четыре минуты. Небольшая инструментальная пьеса.
— А была ли какая-то сопровождающая нарративная база, которую мы попросту утеряли…
— Была. Но есть разные жанры. Жанры – в каком плане? Я могу сказать, что наблюдается два типа кюев. Один тип – это эпический, где описывается, скажем, какая-то боль, драматическое событие… Вы прислушиваетесь и слышите топот коней, шум битвы, экспрессию – и это описательные черты. А есть кюи, про которые, вы не можете этого сказать…
— То есть они не привязаны к некоему историческому событию, это просто чистая эманация, да? Человеку что-то пришло, и он что-то наиграл?
— Да, но чаще всего эпические кюи посвящаются какому-то событию, скажем, битве – “Шанды жоры”, один из древнейших кюев, переводится как “Битва в пыли”, или “Пыльная битва”, или даже “Пыльный поход”. Поэма “Батыр Баян” посвящена битве Абылай хана с калмаками (джунгарами). Такие кюи, как “Ақсақ құлан”, привязаны к какой-то легенде, истории, событию. Но есть и другие кюи… Скажем, никому же в голову не приходит спрашивать у европейцев: о чем Моцарт писал в таком-то произведении? Или, допустим, Бетховен?
— Каждый находит свое что-то…
— Да. Вот точно так же многие казахские кюи – они настолько профессионально развиты по форме, что в голову не придет спрашивать такое. Послушайте кюй “Абыл” – это великий кюй. Он получил название по имени композитора и исполнителя. А это настолько тяжелая, настолько трагическая, настолько мощная, настолько законченная вещь! Поэтому сказать о том, что здесь описывается такая-то битва, такой-то поход, невозможно. Да, бывают шуточные кюи, где описывается походка жеребца, иноходца (“Қара жорға” — “Черный иноходец”), или смех девушки или восхищение девушкой. Но кюй “Абыл” настолько тонкий, что говорить о том, что он несет чисто описательный характер, или нарративность какую-то, сказать довольно сложно.
Да, по жанру кюй – короткая музыкальная пьеса, но это слишком общая характеристика. Кюи очень резко отличаются друг от друга. Поэтому для себя я определяю, что кюи бывают лирические и эпические. Лирический кюй – это кюй Таттимбета, в то же время есть и у Курмангазы лирические кюи. Допустим, “Кішкентай” (“Маленький”) — у этого кюя тоже есть история. Рассказывают, что Курмангазы, когда был маленьким, не смог участвовать в походе Исатая и Махамбета, а потом сочинил этот кюй.
— Огорчение, что он маленький?
— Да, огорчение… То был конец эпохи степного рыцарства, успехи кочевой цивилизации военные, политические, хозяйственные были уже в прошлом. Это был уже видимый, зреющий закат. Может поэтому музыка того времени столь пронзительна…
Но если говорить конкретно о данном кюе, я, например, сильно сомневаюсь, что все было так… просто. “Кішкентай” — это одно из величайших музыкальных произведений, можно сказать, мировой музыкальной культуры. И, по большому счету, это не столько огорчение маленького мальчика, сколько, может быть, разочарование человека во всем, что творится на земле, в самой жизни, в смысле жизни. Это очень сложная вещь. Поэтому, повторюсь, если европейцам не приходит в голову, слушая, допустим, Шопена или Штрауса, Бетховена или Малера – спрашивать, о чем это? Словом, я думаю, было бы не совсем корректно спрашивать, о чем этот казахский кюй? Я, допустим, не согласен с утверждением, что якобы весь казахский кюевый арсенал представляет какую-то летопись народа – да ни черта! Это далеко не так, да, это может быть, летопись. Но летопись совсем иного рода…
— Все-таки это больше культурный акт?
— Да. Летопись, может быть, духовных переживаний народа. Вагнер, допустим, посвятил свое творчество музыкально-сценическому воплощению германской мифологии и средневековых легенд. А в опере “Песнь о Нибелунгах” так надо понимать пытался выразить свое отношение к давним событиям, сохранившим отображение в скандинавской мифологии. У нас — то же самое. Композитор хотел выразить свое отношение к чему-либо. Больше всего кюй — это сугубо личностное отношение композитора. Но как это все потом передавалось?! Бережно, но вариативно. Естественно, сохранялись имена, передавались произведения, чьи кюи – все это было известно. Однако к великому сожалению, мы очень многое потеряли за время царской колонизации и Советской власти.
— Что именно? Например…
— В период после полной потери суверенности тремя жузами Казахского ханства и расцвета экспансии имперской России в степь с севера были направлены тысячи татарских мулл. В данном случае религия играла формальную роль, она как бы должна была по идее помочь повысить… управляемость кочевников. Неминуемо стали происходить столкновения на ментальном уровне. Например, у казахов было развито шаманство, по-казахски “баксы”. Сами понимаете, это, по сути мистическая традиция, восходящая к язычеству. Эти баксы широко использовали такой инструмент как кобыз.
— Инструмент не менее мистический, чем сами баксы!
— Совершенно верно! Новые же духовные пастыри называли музыку исполняемую на этом древнейшем смычковом инструменте “дьявольской”. Вплоть до того, что ломали инструменты. Кобыз, соответственно и кобызисты, таким образом, стали подвергаться репрессиям.
В годы же становления Советской власти это достигло апогея — многие исполнители народной музыки были просто уничтожены физически. Что им ставилось в вину? Допустим, что они де исполняют “печальную” музыку. Такие исполнители как Сейек, Абди и масса других не смогли инкорпорироваться в советскую культуру. Вот собственно, что имелось в виду, когда я говорил о потерях… Это жернова истории, объективные обстоятельства, ничего не поделаешь…
— В связи со сказанным Вами, у меня такой вопрос возникает. Есть, допустим, юзер — это представитель огромной и множащейся с каждым днем армии пользователей Интернета, персонального компьютера… Но есть продвинутый юзер, есть “чайник”. Также есть люди, очень тонко чувствующие музыку. Они могут сказать: неделю назад имярек так арию спел, а сегодня что-то у него голос подсел или еще что-то… Казахская аутентичная культура, сами казахи, как народ, как нация, пережили массу катаклизмов, мы перестали быть кочевниками и т.д. А что у нас произошло со слухом? Наверняка здесь тоже есть трансформации. Но, тем не менее, казахи остались с домброй, есть у нас создатели новых кюев… Как мы их назовем? Аутентичными их называть еще рановато…
— Да, назовем их… композиторами кюев.
— …То есть раньше, надо понимать, даже рядовой казах был музыкальным, потому что, он не воспринимал все это, как наследие или как отдельный какой-то культурный акт, не надо было идти в храм – в зал филармонии и т.д. Он это слушал в степи, на горных джайляу (летние выпасы скота – Ред.) при больших и малых сборищах. А как сейчас живет аутентичная музыка, именно как музыка, не в техническом плане, мол, у нас сейчас есть оркестры и т.п. К примеру, некоторые говорят, что домбра – это сугубо интимный инструмент, не для толпы, по большому счету. По крайней мере, не на тысячный стадион. С другой стороны, мы сейчас видим, что домбра становится электрической, выходит на большие площадки… Из этого делают целый масскульт.
— С тем, что домбра не для толпы, я, допустим, не согласен.
— Ну вот видите…
— В Европе музыка тоже вплоть до XVIII века была салонной.
— Клавесинчик… Еще пара видов инструмента. И не более — так да?
— Совершенно верно… А как возникли оркестры? В культуре Европы уже в начале XVIII века начались серьезные изменения. Появились большие концертные залы, и как только это произошло, уже надо было создавать оркестр. Салонная музыка здесь не подошла бы: когда играет одна скрипка, ее услышат пять-шесть человек. А когда в зале сидит 500 человек – извините, нужен целый ансамбль, оркестр. Вот так и зарождалась, в принципе, европейская классическая музыка. У казахов не было концертных залов…
— В чем вопрос то!..
— Кюй чаще всего играли в юрте – замкнутое небольшое пространство. Условия жизни долго не менялись на протяжении веков… Но, извините меня, если сегодня в зале сидят 3 тысячи человек и вы выходите только с одной домброй, надо тогда использовать или микрофон, или электро-домбру, или оркестровые варианты создавать. Опять-таки это сложный вопрос.
— То есть у нас в традициях произошел какой-то разрыв или это просто…?
— …это просто новая ступень развития! Я не разделяю мнения многих наших музыковедов, которые считают, что произошел разрыв, что оркестр – это неправильно. Да, это следующая ступень, но тут осознанно надо к этому подходить, прежде всего имея в виду те вещи, которые произошли с казахами… Исходя, в конце концов, из новейшей истории казахов! Вы сами прекрасно знаете, что мы пережили за ХХ век. Во-первых, восстание 1916 года, во время которого немало людей погибло, и многие казахи ушли за кордон. Потом гражданская война, когда опять-таки полегло много наших соотечественников. Затем геноцид, устроенный большевиками в 1932-33 гг., в результате которого больше половины населения умерло от голода. Годы войны, репрессий, когда по разным подсчетам около 300 тысяч казахов было уничтожено. Каждый четвертый из казахского населения погиб в годы второй мировой войны. Потом уже было поднятие целины, приведшее может быть к экономическому подъему, но зато резко изменившим национальный состав республики…
— То есть череда социальных катастроф…
— Вот именно. Естественно, мы, казахи, как носители культуры, сдали почти все свои позиции. Если раньше язык кюя был понятен для всех, то теперь этого нельзя ожидать. А тогда музыка играла особеннейшую роль. Если читать записи Рубрука, Плано Карпини, можно очень много интересного найти. Там описывается, как тюрки (их называют татарами) готовятся к бою: перед битвой выходят пять тюркских шаманов и играют на музыкальных инструментах (на кобызах). И здесь надо представлять, что они играют… Нам сейчас это очень трудно понять.
— Это некая психоделика могла быть…
— Вполне вероятно. Были жанры и виды исполнения. А перед битвой, конечно же, игралась особая мелодия и исполнялась она с особым настроением. И вообще и пять, и шесть, и десять столетий тому назад язык традиционной музыки понимали все. Это же очевидно! Творцы приходили друг к другу. Если один кюйши не мог приехать к другому, допустим, по болезни, он сочинял кюй, отправлял его через т.н. қақпа құлақ, куйма қулақ. То есть человека, который…
— Понял! Через живого передатчика. Тогдашний “музкально-степной” DHL…
— Да, он мгновенно запоминал мелодию. Кюйши ему играл и говорил: “Передай Аскару. Сам я не смогу”. Тот ехал к Аскару: “Жаке тебе передает вот такое”, — и играл. Аскар тут же сочинял и отправлял новое послание. Вот такие моменты. Тогда практически все могли понимать и воспринимать кюй.
— И все-таки не разрыв, а обстоятельства внутренние, внешние – существовали?
— Я к оркестру отношусь так: да, это следующий тип, и параллельно традиционной существует теперь оркестровая казахская музыка. Но, в то же время …разрыв именно в том, что весь народ перестал воспринимать кюи. Да, мы можем их слушать, да, они красиво звучат. Где-то понимаем, где-то не понимаем, где-то слушается, где-то не слушается. Но, чтобы кюй таким же образом задевал, цеплял, волновал всех – этого уже нет. Мы это потеряли. Над этим, может быть, надо и работать.
— Это можно сравнить с потерей культуры малыми народами? К казахам в этом смысле история все-таки осталась достаточно благосклонной, мы сами сохранились, у нас есть гимн, флаг, суверенная территория. А малые народы, где тоже существует огромный пласт, не знаю, как назвать, азиатской, кочевой культуры… К примеру, смычковые инструменты постепенно уходят. Говорят же, что если какая-то нация исчезает, человечество в целом теряет. Казахи все-таки не дошли до этого? То есть, нужно нам посыпать голову пеплом, или нет?
— Да нет, наверное. Но есть у меня очень большие сомнения, допустим, относительно будущего нашей культуры (в данном случае, напомню: мы речь ведем о традиционной культуре). Наверно, такие сомнения одолевают любого думающего человека. Я не считаю, что в Европе все очень хорошо в этом плане, что там все любят классическую музыку и проч. То есть, как бы там ни поддерживались оркестры, для них тоже наступил достаточно серьезный кризисный период. Вся европейская, американская, западная оркестровая музыка – с 90-х годов переживает спад. Все меньше ходит слушателей на их концерты…
— И самое главное – рождаются ли, как вы выразились ранее, титаны? Титанов мы тоже не видим! Есть блестящие исполнители – пианисты, скрипачи – именно казахи, которые классно инкорпорировались в мировую музыкальную элиту. У нас масса таких профессионалов международного класса. Но на слух там тоже как бы титанов нет…
— Да, поэтому я и говорю, что даже западная классическая культура, которая в определенной степени тоже является традицией для той же Европы, даже эта культура теряет свои позиции, уступает их массовой культуре, поп-культуре, электронной музыке. И, наверное, это явление повсеместное. Как бы мы ни находились на отшибе, нас это тоже каким-то образом касается.
Я вам приведу один пример: мы проводим два раза в году такую “солянку” — делаем концерт, где исполняются казахские эстрадные песни. Поддерживаем “эстрадников” и прочее. В некоторой степени даже коммерческое мероприятие проводим, билеты дорогие – и всегда аншлаг! Пере-аншлаг даже – яблоку негде упасть! Кроме того, проводим вечера кюев, где билеты бесплатные. Просим, распространяем, умоляем: приходите! Ведем большую рекламную, пропагандистскую работу – и всегда набирается ползала, не больше. И где-то в середине концерта народ начинает расходиться. Остаются самые стойкие.
— То есть истинные ценители, у кого “ухо” сохранилось.
— Да, и судя по этому, мы уже отвыкли от традиционной музыки. Почему я и говорю, что у меня большие сомнения насчет будущего казахской культуры.
— Но говорят, в мире наблюдается большой интерес к аутентичной музыке.
— Большой интерес прежде всего среди специалистов. А это по-своему элитарная среда.
— То есть человечество, будем говорить в данном случае о человечестве, хочет, чтобы традиция осталась хотя бы в некоей застывшей форме, как тезаурус, как, скажем, древнегреческий, латынь… Не будем далеко уходить, скажем, Россия – супермузыкальная страна. У них есть свои народные инструменты – то, что мы называем фольклором – балалайка, гусли… Можно ли сравнить в таком разрезе то, что у нас и то, что у них?
— Сравнить невозможно. Потому что в России даже в советское время (не говорю про современное состояние, не владею информацией), просто прекрасно занимались этим делом. У них огромный клад их народных, фольклорных песен, при этом смотрите: такие произведения, как наши кюи – считаются частью истинно традиционной музыки, а российская традиционная музыка – выражена только в песенном творчестве. Это именно фольклор. Инструментальная музыка (извините меня за некий пафос, что ли) в том виде, в каком сохранилась она у нас, у казахов, не могут похвастаться ни турки, ни узбеки, ни азербайджанцы.
— Даже так?
— Вот именно! Я слушал монгольские, якутские инструментальные вещи. Чаще всего – это подражание чему-либо. К примеру, якут, когда играет на своем инструменте, комусе или чем-то еще, подражает голосу, допустим, совы и т.д. Но этот этап казахами был давно пройден! У казахов идет нечто совсем другое. Музыкальное мышление казахов поднялось на другой уровень, уровень абстракции. Не подражание голосу совы, не подражание звукам природы, а создание другой…
— …новой среды?
— Да. Здесь уже другой музыкальный язык, иное музыкальное переживание. Поэтому мы не можем говорить: вот у нас здесь вы слышите сову. Здесь вы филина слышите. А здесь пробегает олень. Не можете вы так сказать, потому что у нас тип музыкального мышления совсем другой: очень профессиональный, приближенный к абстрактному типу мышления, как раз к тому типу, который имелся в Европе, у великих европейских композиторов.
…Возвращаясь же к вопросу, как все обставлено в России, замечу, что там все собрано, описано, изданы книги, аутентичные записи, огромная работа проделана. У нас, к сожалению …мы толком даже не собрали. Если экспедиции выезжали, то где материалы этих экспедиций? Они рассеялись по фольклорным кабинетам консерватории, лабораториям, качество уже плохое. Где-то отдельно Академия Наук выезжала… Но все это надо собирать, пока мы окончательно все это не потеряли – уже и носителей-то не так много осталось.
— …Кстати, насчет носителей. Есть ли сейчас личности масштаба того же Курмангазы, которые могли бы что-то сотворить? Возвращаюсь снова к этой теме: есть у нас создатели кюев?
— Знаете, есть люди, которые создают кюи…
— Но по сравнению со старыми образцами они все-таки ниже?
— Да, намного ниже. Но, я думаю, что это исторически обусловленная вещь. Во-первых, искусство создается личностями, а не народом — это не собрание. Во-вторых, сейчас и на Западе тоже нет …нового …Бетховена.
— Этого я и не говорю.
— И у нас сейчас нет композиторов уровня Курмангазы или Таттимбета. Их великий универсализм был в том, что они создавали гениальную музыку и как исполнители запомнились своим современникам. Такая была традиция. Сегодня же есть достойные носители этих традиций, прекрасные исполнители. Но вот как создатели кюев… Есть композиторы, народники. Но все-таки по форме, по яркости они очень сильно уступают старым мастерам. Это не Курмангазы, не Абыл, не Казангап, не Таттимбет, не Сүгір.
— А кто по-Вашему был последним титаном?
— Последний из великих кюйши – это Сүгір. Он умер в 60-х годах ХХ века. Представляете, к нашему стыду – он умер недавно, буквально вчера, и ни одной его оригинальной записи нет… Масқара (Позор!!!)! Только ученики остались – Толеген Момбеков, Генерал Аскаров, Алимхан Жузбаев, вот эти старики, что сохранили, запомнили, то и передали. Но умер-то Сүгір в 1961 году! — а его никто не удосужился записать. Можно сказать, последний взрыв казахской традиционной культуры, традиционного творчества создания кюя – это Сүгір. Даже Нургиса Тлендиев – это уже не то, потому что он профессиональный композитор, который писал симфонии, современные, чисто европейские формы. И у него есть несколько кюев, но эти кюи были интересны тем, что там наблюдается синтез многих стилей: западно-казахстанского, семиреченского, аркинского… А есть старики, прекрасные трансформаторы, которые передают то, что запомнили, сейчас их уже немного осталось. Я бы отметил четырех стариков: это Сержан Шакратов (Мангыстау), который наиболее известен, его уже записывают. Он фактически перенял, сохранил и передает молодым мангыстауский стиль. Двух стариков уже просто подзабыли. Одного мы нашли и вытащили на сцену – это Даулетбек Садвакасов – он живет в Шетском районе Караганды. Фазыл Туткабеков – живет в Жанааркинском районе Караганды, и Алимхан Жузбаев — в Созаке. Эти четыре старика, – можно сказать, последние аутентичные исполнители казахских кюев. Неконсерваторские… У них есть свои кюи какие-то, в принципе, неплохие. Но говорить о том, что это что-то новое – невозможно. Почему? А по той простой причине, Жаке, что, по моему личному мнению, кюй – это была форма музыкального мышления, так же, как и “қара өлең” (народные стихи). Но это время прошло – время создания кюев, казахи уже этой формой не думают.
— То есть давление среды…
— Давление среды, давление времени, давление других культурных традиций и т.д. И, в принципе, если раньше кюй, как форма мышления, был знаком всему народу, и народ его принимал, и жил этой музыкой, слушал ее, понимал и передавал, то сейчас мы эту традицию потеряли. Поэтому кюй стал чисто сценическим искусством, а в прежние времена это было не сценическое искусство. Это было самое жизнь — вот сидят два кюйши, слушателей десять человек собрали – сыграли.
— Кто-то послушал, посмотрел, подсмотрел… и дальше понес…
— Да. А сейчас все это как бы официальную форму принимает. Форму мышления мы уже потеряли. Поэтому я не думаю, что когда-нибудь в будущем будут рождаться великие кюи. Потому что сейчас…
— Мировосприятие другое.
— …Другое, время другое, традиции другие, даже пища другая стала, одежда другая. Человек стал другим, вот так.
— Тем не менее, это должно остаться. Вы эту уходящую натуру успели условно говоря, сфотографировать, когда записали и перегнали на цифру практически все значимые домбровые и кобызные кюи, исполнителей на других оригинальных инструментах. И выпустили их сборником CD — дисков под названием “Мәңгілік сарын”. Я должен сказать, что это великий подвижнический акт. Без сомнения это этапное явление в деле пропаганды традиционной казахской инструментальной музыки. Специалисты утверждают, что по своему масштабу с этим проектом сравним лишь проект 1974 года “Антология казахской инструментальной музыки” на восьми виниловых дисках. Однако тот проект уступает этому не только по количеству записей, но и по такому критерию, что тогда в соответствии с идеологией того времени более половины кюев были даны в исполнении оркестра. Вы же стремились к аутентичности и создали альбом, который еще много-много лет будет востребован не только слушательской аудиторией, но и профессионалами. Прежде всего самими домбристами, кобызистами особенно молодежью. Ведь большинство этих записей были раньше недоступны никому, кроме сотрудников архивов. Теперь новое поколение традиционных музыкантов будет иметь ориентир, к которому оно должно стремиться. Несомненным достижение альбома “Мәңгілік сарын” можно считать бережную паритетность в отражении разных школ казахской домбровой музыки. И это не мои слова! Это оценки специалистов. Иными словами Вам удалось собрать, почти “Золотой фонд” традиционной казахской музыки.
— Не надо хвалить… К тому же не я один участвовал в этом проекте. Давай вопрос!
— Итак, еще один вопрос, Вы можете, как один из организаторов этого дела и идейный вдохновитель, сказать, что мы все-таки успели эту уходящую натуру “поймать”?
— Я могу сказать, что да, успели поймать, как ты Джанибек выразился, “сфотографировать”… И как бы я ни жаловался на зрителя, на слушателя, я наблюдаю в последние годы – пусть мало, но появляется новая аудитория, особенно молодежь. Допустим, когда сидят в зале одни старики или люди среднего возраста, я не радуюсь. Потому что в любом случае мы стоим ближе к этой традиции. Понятно, что мы ее до конца будем поддерживать, пока не умрем. Но мы – уходящее поколение. От нас уже не будет никакого толку. И все это наследие будет просто мертвым грузом, если не будет слушателя, если не будет исполнителя. Если не будет человека, который бы все это понимал, перенимал, и дальше продолжал. Все-таки молодежь приходит. Кто-то уходит, а кто-то остается.
— То есть, сохраняется какая-то мерцающая нить…
— Сохраняется, она есть. Но здесь я хотел бы кое-что предложить. Вообще мы давно уже это предлагаем, несколько раз и на имя президента писали письма, но, к сожалению, пока все это без ответа. Как мне кажется, надо бы очень серьезно задуматься, и уже со школы какую-то учебную программу по традиционной культуре ввести, хотя бы в казахских школах, чтобы дети с раннего возраста могли понимать, что это такое. Человек если не слушает, не понимает, в чем его обвинять? Ему – 50 лет, а ты ему пытаешься объяснить что-то великое, так ему это уже абсолютно все равно. А если детям целенаправленно давать возможность знакомиться с родной культурой, запоминать все это, я думаю, это было бы просто великое дело. Если мы не хотим потерять свою культуру, мы сейчас именно в этом направлении должны работать. А то, что потеряно, потеряно безвозвратно. Я не думаю, что мы какие-то новые кюи найдем. Хотя, например, в Китае, в Монголии есть казахи, у которых остались кюи, я уже слушал и “китайцев”, и “монголов”, но чего-то нового, интересного мы у них не находим.
— Остались только рефрены?
— Рефрены – да. И здесь надо подчеркнуть, что все-таки, эта великая культура создавалась не там, а здесь, у нас, прежде всего на территории современного Казахстана… Понимаешь? Поэтому говорить о большой исторической и музыкальной ценности того, что у них там де сохранилось, нельзя. Да, можно принять как исторический факт, как интересный музыкальный факт, что и у них есть нечто подобное… Но вся кладезь, весь ареал у нас, здесь… Наша музыка может жить и развиваться только здесь.
— Ну, а вы сами верите в то, что в ближайшее время, или, может быть, спустя какое-то время, может родиться, так сказать, новый гений, именно в рамках исполнительства традиционной культуры? Говорить о временных отрезках тяжело, особенно когда речь идет о казахах. Пусть даже гений-исполнитель, не тот, кто продуцирует новый кюй, а именно человек, который мог бы так сыграть, чтобы забрало бы, и позвало бы на битву? Пусть даже двух-трех слушателей, пусть тех людей, которых вмещает только традиционное жилище наше, юрта. Может такой родиться?! Ведь у вас, наверно, интуиция какая-то есть, как у исследователя, эксперта. Или это так на рефрене и останется, и мы должны просто это хранить? Как музейную некую субстанцию…
— Я понял… Я лично глубоко сомневаюсь, что какие-то новые создатели этой музыки родятся, потому что мы же сами признаем: время ушло. Но с другой стороны, думаю, гениальные исполнители вполне могут быть, появиться в будущем.
— То есть, все-таки есть интерес?
— Есть интерес, есть прекрасные молодые, юные дарования, исполнители. Я одного-двух знаю. Сейчас даже по именам их называть как-то неудобно, боюсь сглазить. Эти дети – одному 12 лет, другому – 13, — просто потрясающие исполнители. Посмотрим, как сложатся их судьбы. Хотелось бы верить, что будут.
— То есть, свое интервью мы заканчиваем на минорной, но светлой ноте, с надеждой…
— Да …но опять-таки исполнители будут, если будут слушатели. Сейчас мы должны, наверно, бороться, прежде всего, за слушателя, за зрителя.
— И последний вопрос такой. Сегодня крупные национальные компании вывозят целые бригады наших исполнителей, именно в рамках традиционной культуры. И за рубежом они якобы имеют успех. Для иностранцев это как бы некое откровение. Есть ли такой рынок в мире, где аутентичная музыка могла бы себя не то, что проявить… Она себя и так проявит, потому что, понятно и дураку, что это мощь. Но есть ли такой рынок, некая площадка, куда можно выходить и показывать нечто свое, аутентичное, древнее…
— Площадки есть, особенно во Франции, там этим очень сильно интересуются. Американцы тоже интересуются. Но опять-таки это, прежде всего, круг исследователей, специалистов. Да, выезжали наши домбристы, кобызисты за рубеж и действительно имели там просто ошеломляющий успех. Да, слушатели были потрясены. Но говорить о том, чтобы это были стадионы, или хотя бы большие концертные залы… В зале обычно собираются интересующиеся люди, специалисты, исследователи, теоретики, представители диаспоры.
— Это понятно, их мещанин и на Равеля не пойдет, а тем более, на кюй и домбру…
— И, тем не менее, нашу традиционную музыку мы должны сохранять и развивать, а иначе — что мы можем предложить миру достаточно серьезное, достаточно оригинальное, достаточно первозданное и древнее, присущее только нам? Да не скрипачей! – извините меня, но у них у самих есть великие исполнители. Не пианистов – у них самих есть прекрасные пианисты. Мы должны продвигать свою традиционную музыку! Это единственное, что, так сказать, позволит понять и узнать казахов. Например — я преклоняясь перед духом умерших, тем не менее, скажу!, — например, мы не можем потрясти мир песнями Шамши Калдаякова. Безусловно, это прекрасные, красивые песни. Но это вальсы, вальсообразные вещи.
— Это – в хорошем смысле – для внутреннего употребления?
— Вот именно… Есть у нас величайший скрытый потенциал – это как раз наша традиционная культура, наши кюи. И не надо на это смотреть, как на нечто никому не понятное. На самом деле у нас есть произведения, созданные на высочайшем профессиональном уровне. Поэтому я поддерживаю ту же Асию Мухамбетову (известнейший наш музыковед – Ред.), которая ввела термин: “профессиональная традиционная музыка” – относительно казахской традиционной музыки. Будем надеяться на лучшее и верить в то, что эта музыка будет востребована. И она еще веками будет волновать казахскую душу (и не только казахскую!), напоминать казахам о том, чьими они являются потомками…
— Иншалла. Пусть сбудутся наши надежды!
***
В ближайшее время редакция планирует начать публикацию произведений из сборника CD “Мәңгілік сарын” в формате mp3.