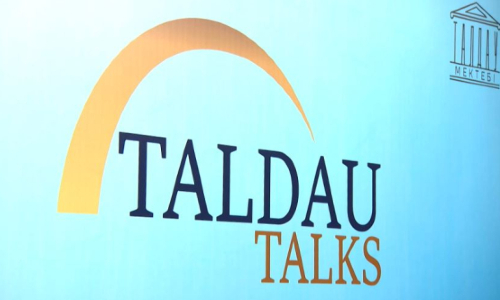Редакция публикует фрагменты из книги казахстанского бизнесмена Руслана Азимова и московского журналиста Виктора Шацких – «Политически некорректные диалоги на темы новейшей истории».
***
Виктор Шацких:
Мой соавтор – казахстанский предприниматель, бывший президент государственной корпорации. А я московский журналист. Что у нас общего? Много чего.

Руслан закончил аспирантуру в Москве, я немало лет прожил в Казахстане. Вообще-то мы знакомы с первой половины 80-х, когда Азимов трудился агрономом в совхозе, а я начинал творческий путь корреспондентом алматинской областной газеты. За 35 лет, которые прошли с той поры, наши биографии прочертили две нескучные траектории, довольно часто пересекаясь.
Вокруг в это время тоже происходило много интересного. На глазах соавторов и с их скромным участием рушилась Великая Империя. На руинах воздвигались новые государства и новые столицы. По крайней мере, одна столица, Астана – действительно воздвиглась, к восхищению и зависти соседей. В это же время в обеих наших странах накатывали и разбивались о каменистый берег волны иллюзий: демократических, патриотических, ещё каких-то.
На сбывшееся и несбывшееся полезно посмотреть с высоты зрелого возраста.
Когда Руслан бывает в Москве или я в Алматы, мы с ним выпиваем, активно делимся новостями, вспоминаем о былом и не раз уже отмечали одно любопытное обстоятельство. В спорах-разговорах о жизни, временами довольно горячих, нам обычно удаётся находить консенсус, складывать обсуждаемые явления в чёткую объёмную картинку, как на экране 3D кинотеатра. Мы видим мир с двух разных точек, разнесённых в географическом и политическом пространстве. Азимов живёт в одной стране, я в другой. Он капиталист, представитель класса крупной буржуазии, а я пролетарий более или менее умственного труда и социал-демократ, если надо как-то определять свою политическую ориентацию; однако наши точки зрения отстоят не слишком далеко друг от друга. Мы люди одного поколения и одной культуры. Не лишне добавить, что маму Руслана зовут Лидия Николаевна, она родом из Кировской области, а отец его, Джумабай Азимов, был известным в Средней Азии журналистом.
В общем, у нас есть возможность – одна на двоих – разглядеть объёмно и в резкость те предметы, которые выглядели бы плоскими для «просто» российского журналиста и «просто» казахского бизнесмена.
В какой-то момент я понял, что будет неправильно, если наши наблюдения за жизнью в 3D-формате останутся устным застольным творчеством. Если всё это добро пропадёт. Поэтому я предложил Руслану написать книжку. Прецеденты такого рода уже имелись. Например, Альфред Кох с Игорем Свинаренко издали свой «Ящик водки» и очень занимательно разобрали там события последних десятилетий российской истории.
Нам с Азимовым есть что рассказать и о современности. О некоторых её социальных и экономических проблемах. На профессиональном уровне. Например, возьмём тему доступного жилья. Почему не взять? Это ведь недоразумение, что жители богатой просторной России и ещё более просторного Казахстана до сих пор набиваются в тесные дорогие многоэтажки, а не расселяются по примеру канадцев и американцев в пригороды, в благоустроенные домики с гаражом и с лужайкой на заднем дворе. Мы оба прониклись прогрессивной идеей малоэтажного строительства ещё в первой половине нулевых. С тех пор я опубликовал в российских изданиях много задорной публицистики и вполне аналитических текстов на строительную тему. Получил комментарии у самых лучших московских экспертов. Они подтвердили, что «Одноэтажная Россия» могла бы стать национальной идеей, если бы не повсеместная российская коррупция и не такое же повсеместное раздолобайство.
В это время Азимов, пользуясь поддержкой президента Назарбаева и дружбой с мэром Алматы, а также пользуясь тем обстоятельством, что Казахстан устроен в определённом смысле попроще России, без многовековой заскорузлой бюрократии – попытался провести красивую малоэтажную идею в жизнь. Он со своими деловыми партнёрами начал застраивать окрестности обеих казахстанских столиц сотнями недорогих комфортных домиков. В планах у Руслана было строительство тысяч, а потом и десятков тысяч индивидуальных домов, дуплексов и таунхаусов для казахстанского среднего класса. Далеко не всё пока получилось. Почему? Нужен разбор полётов. В этой книге он будет представлен.
Первая часть наших неполиткорректных диалогов вышла в Алматы ещё в 2006 году. Вторая должна была выйти сразу вслед за первой. Но публикацию пришлось дважды откладывать. По ряду причин. В том числе драматических. У Руслана нашли серьёзную болезнь. Он с ней успешно борется и обязательно победит, но какое-то время ему было не до публицистики.
Эта длительная отсрочка добавила объёма, стереоскопичности нашему взгляду на события недавней истории. Уже и собственные оценки, сделанные в 2006 году по поводу восьмидесятых и девяностых, сегодня выглядят в чём-то наивно и требуют комментариев.
В общем, теперь мы наконец-то издаём сразу две части «диалогов»: доработанную первую, про 1984-1991 годы и вторую, которая включает в себя период с 1992 года по 2000-й. Плюс три «современные» главы: о малоэтажном строительстве, о евразийском бизнес-климате (с углублением в подтему «ворующий топ-менеджер как системное явление наших дней») и вполне инсайдерские рассуждения о том, почему разорились крупнейшие казахстанские зерновые бароны, а российские не разорились.
Затем, если Бог даст, допишем третью часть, про «нулевые» годы. Тогда может получиться не только занимательное чтение для современников, но и приложение к будущему учебнику истории. Наша книга даст возможность студентам завтрашних дней более объёмно и сочно представить недавнее прошлое. Полагаю, прогрессивный университетский преподаватель в каком-нибудь 2030 году подумает – и внесёт «диалоги» в список литературы, рекомендованной для чтения старшекурсникам. На его месте я бы обязательно так поступил.
ГЛАВА I (фрагмент)
В которой соавторы уточняют для себя и для читателей – что именно и в какой последовательности они будут вспоминать. А уточнив, мысленно погружаются в 1984-й год и находят там много неожиданного. Например, изобилие продуктов.
– Виктор, ты как себе представляешь сюжет?
– Я думаю, надо начать с 1984-го: мы с тобой как раз познакомились. Это был последний спокойный, догорбачёвский год. Конец эпохи «развитого социализма».
Магазины были полупустыми, а домашние холодильники полными. В телевизоре целовались и награждали друг друга орденами и золотыми саблями старые больные секретари ЦК КПСС. Потом начались перемены. Эти перемены и вообще тогдашнюю жизнь мы станем год за годом разбирать и осмысливать.
– Но, наверно, нет необходимости жёстко привязываться к хронологии?
– Думаю, нет. Мы будем иногда выходить в современность, давать слово участникам событий и просто знающим людям. Сами тоже чего-нибудь прокомментируем. Это же наша книга. Что хотим, то и делаем.
– Годится.
– Тогда поехали. В марте 1984 года меня, корреспондента алматинской областной газеты «Огни Алатау», отправили на совещание по сельскому хозяйству. На этом совещании секретарь обкома партии (областной аким на новые деньги) поднял молодого агронома в дальних рядах и сказал: посмотрите, это Руслан Азимов. Он самый младший тут, наверное, по возрасту. А уже две тысячи гектаров солончаков вернул в оборот! Вот у кого вам надо учиться!
Я, как полагалось неленивому корреспонденту, нашел тебя в перерыве. Сделал с передовым агрономом интервью. Так мы познакомились.
В то время Руслан Азимов считался москвичом, который взял, и уехал из столицы в глухомань, в Чиликский район Алматинской области. Это производило большое впечатление.
– Ну, москвичом я был относительным. Приехал из Алматы в Москву учиться в аспирантуре. После этого защитил в Москве кандидатскую диссертацию, женился, работу мне подыскали хорошую… В Сандуны ходил с приятелями по субботам, тары-бары… Всё как-то очень размеренно двигалось. Москва была совсем другая. Без пробок. Спокойный, комфортный город. Даже наивный в чём-то. К Олимпиаде-80 его ещё раз выстирали и выгладили. Ни морщинки. Витрина коммунизма.
А с какими людьми я был знаком! Моя теща училась с Юрием Нагибиным в школе на Чистых прудах. Ещё до войны. Она есть у Нагибина в дневниках – тёща, я имею в виду. Потом они всю жизнь продолжали общаться. Я бывал у Нагибина на домашних вечерах. Он тогда уже развёлся с Беллой Ахмадуллиной, но она тоже заходила на огонёк.
– Ты, значит, среди московской богемы вращался?
– Ну, в том числе. В том числе… А тут в Москву приехал из Казахстана директор совхоза. На какой-то семинар. Этот директор во многих смыслах был человек уникальный. Фонтан энергии. Напор как у бульдозера. Он начал меня агитировать. А совхоз у него, вернее, спецхоз, был уже известным на весь СССР. Революционные технологии, рекордные привесы, почётные звания…
Говорит – Руслан, там такие возможности! Для научной работы, для карьеры. Я скоро уйду на повышение, ты директором станешь.
– Ну. О чём ещё мечтать кандидату наук? В Москве-то.
– У него был простор. Во всех смыслах. И я ведь сначала не планировал насовсем уезжать.
Этот директор, его зовут Сайлыбай Бекболатов, был очень хорошим начальником. Умным, надёжным. У нас было полное взаимопонимание. Мы с ним классно работали.
Правда, чтобы добиться необходимого контакта с трудовым коллективом, мне пришлось многому научиться. Освоить, в частности, русский и казахский мат. Я же до этого почти не ругался. Практики не было. А тут проведу в полеводческой бригаде планёрку, всем обозначу фронт работ. Через три часа приезжаю – ничего не сделано. Даже не начинали. Думаю – как поступить? Идти к директору жаловаться? Это несерьёзно как-то. Ну и научился нужные слова подбирать. Чтоб до сердца доходили.
– Я вот думаю, что в наших и в ваших краях, несмотря на капитализм, моральные стимулы по-прежнему играют серьёзную роль в создании мотивации к труду. Правильно сказал Никита Михалков: за одни только деньги русский человек никогда работать не станет. И казахский тоже не станет.
– Ты относишь производственный мат в категорию моральных стимулов?
– А куда его отнести?
– Хм, интересная мысль.
– Я тебе больше скажу: вот скоро мы будем с тобой обсуждать неудачи горбачёвских реформ. Эти неудачи во многом оттого и произошли, что реформаторы полагали, будто советский человек, если дать ему экономическую свободу, сам начнёт, как швед или американец какой-нибудь, инициативно и честно трудиться, день за днём, размеренно создавая благополучие себе и своим детям. Это была крайняя степень наивности. Наш человек по-другому устроен.
– Ты и в 1984 году так считал?
– Я был тогда молодым корреспондентом. А не секретарём ЦК.
– Мы уже начали обсуждать перестройку?
– Нет. Это я забежал вперёд. У нас пока 1984-й. В Казахстане премьер-министром назначен Назарбаев. В 44 года. Он самый молодой премьер в стране. А в Москве умер Андропов, пришёл Черненко. Вернее, привели. Он сам почти уже не ходил. Под руки привели к власти. А?
– Да уж.
– А в Казахстане царствовал Кунаев. Ему тоже было хорошо за 70.
– Ну, Кунаев был ещё крепкий.
– Да. Я вот думаю, если бы Брежнев, Андропов и Черненко не стали один за другим помирать… Если бы хоть кто-то из них жилистым оказался, как Кунаев или, допустим, как Рейган или как Лигачёв, то народ бы ещё лет десять спокойно пожил. Или вообще обошлось без революционных преобразований.
– Ты хочешь сказать, что, если бы старые вожди были покрепче здоровьем… А как же назревший кризис системы? Объективные причины?
– Это какие?
– Всем известные. Затратная экономика. Ресурсы уходили как в прорву. В магазинах почти ничего не было. Ты не помнишь? А зарплаты у народа были такие, что хоть смейся, хоть плачь.
– У тебя какая была в 1984-м зарплата?
– Я хорошо зарабатывал. Я же был главный агроном.
– Триста рублей выходило?
– С премиальными побольше выходило. Но это была далеко не средняя зарплата по стране.
– А я был начинающим журналистом. Зарплата 130, плюс гонорар 80-100. И сторожем в детском саду подрабатывал. Ещё 70 рублей. Это с университета: я на пятом курсе, как дочка родилась, начал работать сторожем и дворником.
Правда, 70 рублей уходили за съёмную квартиру. Собственную квартиру я получил уже от газеты «Казахстанская правда» в 1987 году. Детей у нас к тому времени было двое, так что сразу дали трёхкомнатную. Для молодёжи поясним: бесплатно.
– В годы моей московской жизни я создал бригаду городских шабашников. Мы её называли «Кооператив «Аперетив». Аспиранты, младшие и старшие научные сотрудники. Мы чистили от снега платформу электрички, заборы красили, бани в Подмосковье строили. Вставали в пять утра и до девяти, до начала официального рабочего дня, пахали. Ну и в выходные, естественно. Получалось рублей по четыреста.
– Рабочий на стройке или на заводе получал от 120 до 300 в зависимости от квалификации. А мясо в магазине стоило два рубля килограмм. Были ещё куры по рубль шестьдесят и по два двадцать…
– Так ничего ж этого не было в магазинах!
– Где, в Москве не было?
– В Москве было. Но вот, допустим, про пиво ты мне что расскажешь? Или ты уже не помнишь поиски пива? В жару? Можно было убить всё воскресенье и не найти. Никакого.
– Вот тут ты прав. Как человек объективный, я должен признать: с пивом — это ты сильно. Под дых.
– И ты меня будешь агитировать за социализм?
– Я тебя не агитирую за социализм. Вообще, эти «измы»… Не в них же только дело, как оказалось.
– А в чём, по-твоему, дело? В менталитете?
– Да как… Вот сидит, допустим, твой совхозный тракторист в восемьдесят четвёртом году, смотрит иностранное кино и думает: а чего это я живу так херово? И отдыхаю тоже херово? Почему американец едет на кабриолете в Майами-бич, а я на «Запорожце» еду на Капчагайское водохранилище?
И ему скоро начнут внушать разные химеры. Мол – не потому ты живешь хуже американца, что водку пьёшь крепко и ничего толком делать не умеешь. И учиться не хочешь. А потому, что виновата Система. Это Система тебя загнобила. Социализм виноват. И мужик на это ведётся.
– А система не виновата?
– Да система-то виновата. Но вот в 1917 году мужику так же объясняли, что виноват проклятый царизм. Мол, это он все соки выпил из народа, честного и работящего. И надо всё перевернуть кверху дном и построить неслыханное счастье.
А потом страну опять проносит мимо кассы.
Я вот сейчас думаю: тот уклад жизни, поздне—советский, который мы дружно ругали – он был, в общем, сбалансированным. Он после всех пертурбаций уже неплохо был настроен под нашего человека. Никакого особенного ужаса в себе не содержал.
Конечно, экономику надо было потихоньку поворачивать к большей эффективности, сельское хозяйство постепенно переводить на частные рельсы. Там дебет не сходился с кредитом. Но сейчас всё гораздо сильнее запущено! В России четверть населения живет в сельской местности. А в Казахстане почти половина. При советской власти все эти люди работали и получали зарплату. Сейчас многие сидят без дела. А те огромные деньги, которые раньше тратились на дотации колхозам и совхозам и помогали прокормить миллионы людей, теперь тратятся на стометровые яхты миллиардеров.
– Ну, сейчас уже далеко не везде так плохо. Ты давно был в ауле?
– В ауле я давно не был. В деревне был недавно.
– Большая проблема, что народу у нас в аулах в пять раз больше, чем требуется работников. Причём, многие сельские жители мечтают перебраться поближе к городу. В городе можно дать приличное образование детям, есть выбор работы, выше зарплата и вообще жизнь веселее. Вот в чём особенность текущего момента.
А что мы всё о сельском хозяйстве? Давай о журналистике. У вас, у корреспондентов, в ранние 80-е была несладкая жизнь. Руководящей и направляющей силой советского общества являлась КПСС. А журналисты были подручными партии. Она вам платила зарплату и поэтому решала, что печатать, что нет.
– Насчет зарплаты ты не прав. Наша газета были популярной, у неё был высокий тираж. Так что не партия нас, а мы ее материально поддерживали.
Ну, всякой мути, конечно, много печатали. Может, даже побольше, чем сейчас.
Но я от идеологии всегда держался в стороне. Писал об экономике, расследования проводил. Наличие или отсутствие советской власти большой роли не играло.
– Да, ты вечно кого-то разоблачал, выводил на чистую воду.
– В 84-м я только осваивался в журналистике. Но потом да, будет много интересного, и мы об этом подробно поговорим.
Продолжение следует
***
© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.