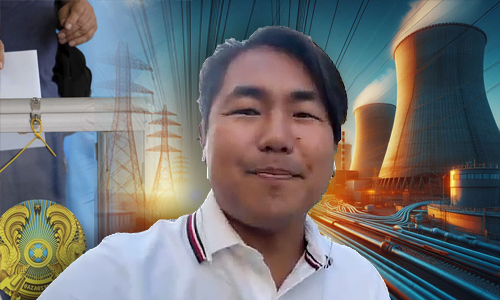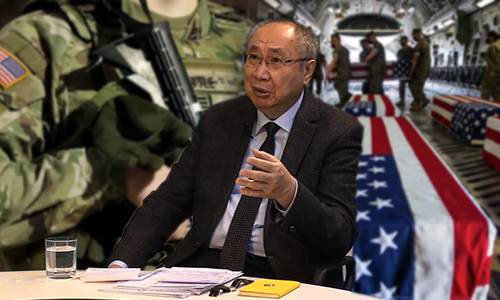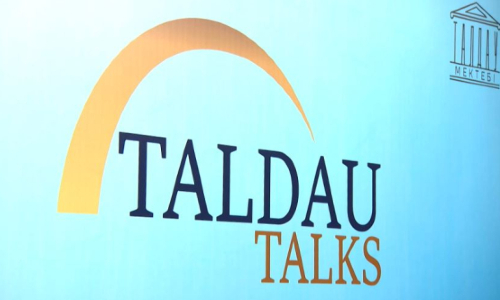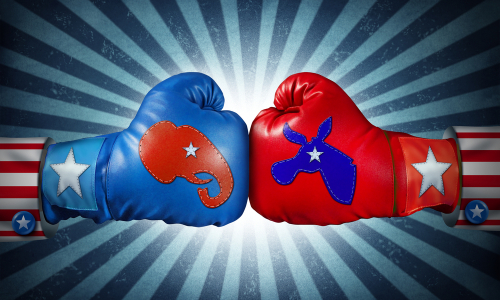Редакция публикует фрагменты из книги казахстанского бизнесмена Руслана Азимова и московского журналиста Виктора Шацких – «Политически некорректные диалоги на темы новейшей истории».
Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4., Часть 5
***
– Руслан, ты согласен, что восемьдесят восьмой оказался годом глубоких перемен?
– Да, уже была не только гласность в газетах, но пошли активные изменения в экономике. Они были сумбурными, но государство многое разрешило. Активные люди спешили воспользоваться новыми возможностями.
— Весной 88-го приняли «Закон о кооперации в СССР». Исторический документ. Хорошо помню, как будущий казахстанский олигарх Борис Гиллер зашёл ко мне в редакцию с этим законом, только что напечатанным в газетах.
Спрашивает – ты понял, что произошло?
Я говорю – ну да. Кооперативы разрешили.
Витя, — говорит мне в ответ будущий олигарх, — какие, на фиг, кооперативы. Насчёт кооперативов, это Горбачев пытается приличия соблюсти. На самом деле приходит конец социализму. Теперь можно заниматься частным бизнесом. Можно открывать расчетный счет в банке, перегонять деньги по безналу. Нанимать людей, называть это кооперативом… Ты понял?
Да, отвечаю, здорово. Может, что-то и получится. А то с этой арендой у них ни тпру, ни но.
Блин, говорит без пяти минут акула империализма. Я тебе что, как корреспонденту это рассказываю? Интервью тебе, что ли, даю? Наше время пришло! Пора делом заниматься!
Ты знаешь, говорю, давай сам. Мне это с практической стороны не очень интересно.
Он посмотрел на меня и сказал: Шацких, сейчас бы мы начали с тобой как партнеры. А так — через три года ты попросишься ко мне на работу.
– И он прав оказался?
— Через два с половиной года он сам позвал меня в акционеры, потом пригласил на работу.
А ты ведь «Агро» это своё… Ну, объединение крестьянских хозяйств, создал как раз в 88-м? Или уже в 89-м?
– В конце 88-го. А до этого весь год мы работали над решением дачной проблемы в Алма-Ате. И мы её решили! Без ложной скромности – я этим горжусь. Все алматинцы, кто хотел, взяли в том году участки. Десятки тысяч семей.
– Слушай, так я же в 88-м получил роскошный дачный участок. В районе Верхней Каменки. Это, значит, тебе спасибо?
– Ну, как. Не только мне. Ахметжан Есимов был тогда председателем областного агропромышленного комитета. Я работал у него начальником управления. И мы этой темой вплотную занимались. «Продавливали» через облисполком вопрос о выделении земель под дачи. Шесть постановлений было нами подготовлено и Князевым подписано. Князев – это председатель облисполкома в то время.
Идеология у нас была простая: если дать людям по клочку земли, то они сами себе вырастят овощи и фрукты. Снимут нагрузку с Агропрома. Такая логика вышестоящему начальству нравилась.
И мы это сделали! Именно с тех пор в Алматы нет проблемы с плодоовощной продукцией. Ну, и, кроме того, дача это уже какая-никакая свобода.
В 88-м, когда мы пробили это дело, сначала стали давать участки писателям и композиторам выше проспекта Аль-Фараби, потом выделяли огромные земельные массивы уже не так близко от города и нарезали их по шесть соток. На этих участках вокруг Алма-Аты теперь построены десятки тысяч хороших домов. И люди, которые там живут, как я понимаю, не жалуются на жизнь, не ропщут на власть.
– В апреле 88-го я перешёл из газеты «Казахстанская правда» на работу в Верховный Совет Казахской ССР. А там как раз сотрудникам давали участки. Рядом с городом, чернозём. Но я не хотел брать. И мне все говорили: ты что? Отказываться от такого счастья?!
– Ты, может, боролся таким образом против привилегий? За социальную справедливость?
– Нет, просто на даче же надо вкалывать. А меня как-то не очень тянуло. Я в горы любил ходить. И денег не было, чтобы строиться, машины не было. Но родственники уговорили, я взял участок и героически его осваивал.
– А чего ты ушёл из газеты в чиновники? Это было как-то неожиданно для тебя.
– Я туда в основном из любопытства сходил, ненадолго. Интересно было посмотреть этот мир изнутри. А то мы всё писали: аппарат, аппарат… И вот представился случай: у заместителя председателя президиума Верховного Совета КазССР В. В. Сидоровой уволился помощник. Он был мой старший коллега, в газете когда-то работал, потом стал помощником у Сидоровой. Хорошие доклады писал. Но во время борьбы с пьянством подловили мужика и заставили написать заявление. Вера Васильевна переживала, но помочь не смогла. Попросила найти замену, он порекомендовал меня.
Ну, я подумал, подумал… Что я теряю? Мне 28 лет, вся жизнь впереди. О Сидоровой все журналисты, кто её знал, отзывались только в превосходной степени. И работа вроде простая. Что я, доклад не напишу? Решил сходить посмотреть, что там и как.
– И как?
– Да так. Поработал я, осмотрелся, и мне не понравилось. Хотя отношения с шефом были прекрасные. И семья радовалась: каждую пятницу я привозил домой продуктовый набор. К праздникам можно было сделать большой заказ, с икрой, с балыками там разными. Зарплата очень хорошая. Всем друзьям авиабилеты покупал в правительственной кассе. Какие-то ещё проблемы помогал решить. Таким нужным человеком я стал! Таким для всех необходимым.
– А чего ж ушёл всё-таки?
– Да просто я не чиновник. Когда работал в газете, у меня был, в общем, свободный график: выбираю тему, работаю, в положенное время сдаю статью, она обычно всех устраивает. Это моё. Мой формат. А тут есть дело, нет дела — сиди каждый день с девяти до семи в кабинете. Скучно.
Потом — согласования на каждом шагу, субординация эта… Рядовые инструкторы мне делают «ку», заведующим отделами я должен делать «ку». Дружить на равных в моём положении уместно только с замзавами и то, если у моего шефа с его шефом нормальные отношения. Это что, жизнь?
А осенью в «Казахстанской правде», из которой я ушёл корреспондентом, появилась вакансия заведующего отделом. И они стали меня звать обратно. Написали официальное письмо Сидоровой: мол, Вера Васильевна, лучшего кандидата, чем Шацких на эту должность просто нет, верните нам его, пожалуйста…
Я храню письмо, пусть внуки читают… Ну, я и вернулся в журналистику. С большим удовольствием. Как и планировал, собственно говоря.
Напоследок меня пригласил для беседы председатель президиума Верховного Совета Камалиденов. Так полагалось, поскольку уходил я по-хорошему и вроде даже с повышением. Я ещё отметил, что Камалиденов в свои 52 года выглядит на 40 с небольшим. А через две недели его отправили на пенсию «по состоянию здоровья».
Рассказывай теперь ты про свои достижения.
– Ну, что. Мы создали в 1988 году ассоциацию «Агро». К тому времени уже много было сельхозкооперативов и крестьянских хозяйств, но они работали вслепую. Нужен был, по крайней мере, обмен информацией, нужны были консультации, подсказки: как оформить землю, где что купить и так далее. Нужно было приступать к вертикальной интеграции негосударственных хозяйств. Тогда на это дело возлагались большие надежды.
Что такое вертикальная интеграция? Это когда один фермер выращивает хорошие корма, другой покупает у него эти корма, повышает надои и получает много молока, третий покупает молоко и делает хороший сыр. Такая технологическая цепочка от поля до магазина.
В общем, потребность в объединении была огромная. К нам сразу пошёл народ. Пока ещё не было никаких других подобных структур, к нам шли не только сельхозники, но и вообще все кооператоры. Сотни людей приходили.
Мы плотно занялись подготовкой закона об аренде, потом закона о крестьянском хозяйстве. Подключили хороших юристов, экономистов, вообще прогрессивный народ вокруг этого дела роился… Дальше началось создание аналогичных структур в других областях Казахстана. Люди приезжали к нам перенимать опыт и предлагали объединяться.
Вообще, для советских крестьян это была оглушительная новость: можно брать землю на 99 лет и работать на себя! Никто сначала не верил.
А зарплата у меня знаешь, какая была тогда?
-?
– Восемьсот рублей!
– Ну, для конца 1988 года это было уже не очень много.
– Мне говорили: ты положи себе оклад хотя бы две штуки, так солидней будет. Кооператоры уже хорошо зарабатывали в 88-м, некоторые – очень хорошо. И готовы были делиться. Но мне как-то неудобно было.
Я вот сейчас вспоминаю то время: мы не были, в общем, романтиками, но и желания хапнуть ни у кого из тех, кто стал впоследствии серьёзными людьми тоже вроде не наблюдалось. Работали на перспективу и потому, что интересно было. Вот, допустим, у Бахыта Байсеитова, который создал первый в Казахстане кооперативный банк, был заместителем Владислав Ли. Он и сейчас у него вице-президент в холдинге. И Владислав у нас в «Агро» вёл финансовые дела – за 150 рублей в месяц. То есть, в общем, для банкира это бесплатно.
У нас уже начались тогда отношения с внешним миром, мы плотно работали с российским Союзом кооператоров, его возглавлял академик Тихонов. Заместителем у него был Артем Тарасов, первый советский миллионер. Яркий человек. С большим чувством юмора, выпивать с ним было интересно.
– Помню Тарасова. Он как раз в то время партийных взносов заплатил 50, кажется, тысяч … Шум был по этому поводу страшный.
– Как раз в 1988-м впервые в истории СССР группа активных граждан ушла в отрыв от основной массы населения по доходам. Раньше уборщица зарабатывала 70 рублей, рядовой инженер 150, хороший каменщик или токарь под 300, директор 500, министр и академик зарабатывали по 600 рублей. Это был потолок. А тут появились люди с зарплатой в 2-3 тысячи и больше. Не криминальные авторитеты и не цеховики… Это произвело революцию в умах.
– Если бы кооператоры землю пахали и сыр из молока делали, то и ладно. Пускай бы они хоть пять тысяч зарабатывали. Но многие же начали всё скупать по блату и перепродавать, перекачивать ресурсы из госпредприятий себе в карман. Брали директора завода в долю…
– И директор шёл в долю! Вот в чём дело. Милиция довольно часто этих жуликов не ловила, а тоже шла к ним в долю. Этот разврат очень плохое влияние оказывал на тех кооператоров, кто взялся землю пахать и делать сыр.
– Да. Как только страну немножко разморозили, когда появились там и сям большие деньги – сразу нашлось много желающих продаться за эти деньги. Сама ткань государства стала расползаться.
Но если кто-то начинал беспокоиться, мол — мы же так развалим страну! Нас несёт неведомо куда! – то прорабы перестройки ему отвечали: это вы, уважаемый, давно не перечитывали Владимира Ильича Ленина. Его работу «О кооперации» и письма Инессе Арманд. Там про всё это есть. Мы просто очищаем и обновляем социализм. И вообще вы двоечник.
– Я думаю, они искренне заблуждались, не сразу поняли что к чему, вместе с нами… Как-то все пропустили момент, когда надо было остановиться.
А ты кого вообще имеешь в виду под «прорабами перестройки»? Горбачева? Его советников? Кого?
– Да вот, например. Летом 1988 года в Москве тиражом 100 тысяч экземпляров вышла книжка «Иного не дано». Почти семьсот страниц. Раскупалась она, помню, «влёт».
Там были самые громкие по тем временам имена: Гавриил Попов, Юрий Афанасьев, Федор Бурлацкий, Василий Селюнин, Андрей Нуйкин, Юрий Буртин, Юрий Карякин, Андраник Мигранян. Доктора экономических наук, политологи, публицисты.
Некоторые из них консультировали Горбачева. Все они просчитывали варианты развития событий. И давали остальным гражданам ориентиры: что происходит в стране, куда она вообще идет, что нас там ждет, чего надо опасаться.
Потом ни один из этих прогнозов не подтвердился. Ни один! Никто из выдающихся аналитиков не сумел предсказать наступившую действительность. Авторы прогнозов промахнулись с движущими силами «перестройки». С характеристикой этих движущих сил. С мотивами, побуждавшими их двигаться.
Вот доктор экономических наук Гавриил Попов, его статья «Перестройка управления экономикой»:
…Речь идет о решительной перестройке. Быстрой. Глубокой. Когда главными действующими лицами станут трудовые коллективы. Когда главную плату за перестройку внесет аппарат административной Системы, так как именно он десятилетиями игнорировал необходимость перемен.
Очистительная экономическая буря скорее всего за два-три года отбросит нас по показателям назад, но смоет все неэффективные предприятия как монстров, рожденных администрированием, так и – главное – смоет Административную Систему… Возникнет стартовая площадка бурного подъема.
Или вот политолог Александр Бовин, будущий посол РФ в Израиле. Статья «Правда о социализме и судьба социализма»:
Часто задаются вопросом о гарантиях продолжения демократии, о гарантиях перестройки. Нет и не может быть абсолютных гарантий. А относительные? Такие гарантии есть. Одна из главных – создание правового государства, подчинение власти праву.
Попов и Бовин, как и большинство других авторов сборника «Иного не дано», были в 1988-м зрелыми дядьками, как мы сейчас, за пятьдесят лет и старше. В этом возрасте полагается уже знать людей, понимать, в какой стране ты живешь, как бывает в этой жизни и как в ней не бывает…
Ну, какие, к шутам, «трудовые коллективы»? Или – кто должен был заставить нашу власть «подчиняться праву»? Опять трудовые коллективы? Или ООН? Американцы?
Главный вопрос и главная тревога для прорабов перестройки в 1988-м: удастся ли сделать перемены необратимыми? Или всё ограничится косметическим ремонтом? И социализм останется таким же кондовым?
Что страну может вообще снести к чертовой матери, никому из прорабов, кажется, не приходило в голову.
И чего тогда стоят все эти гигабайты высокоумных рассуждений? Уже через пять лет они выглядели наивными до изумления.
Более точными в прогнозах оказались российские «почвенники». Если ты помнишь, в те годы был относительно популярным такой журнал «Наш современник». Он пытался противостоять прогрессивным журналам «Огонёк», «Новый мир», «Знамя», «Звезда» и вообще демократическому лагерю. Демократы еще здорово над этими «лапотниками» прикалывались. А те писали, что «прорабы перестройки» не учитывают в своих планах и прогнозах нашу ментальность и самобытную историю. Поэтому прорабов, а вместе с ними и страну, ждет большой облом. Каковой вскоре и наступил.
Но при этом собственной позитивной программы у «почвенников» не было.
– Как-то загрузил ты меня опять. Как-то глобально это всё…
– Ты сам начал. Вот скажи теперь: Гавриил Попов искренне заблуждался насчет роли трудовых коллективов?
– Ты по пролетарски ставишь вопрос. Бескомпромиссно. Мол – или дурак, или обманывал. А человек не мог в 88-м всего написать. И сам до конца еще не всё понимал.
– Не, не, погоди. Это же не таксист и не парикмахер, чтоб просто потрындеть о политике. И не просто доктор экономических наук. Многие доктора наук тогда в затылке чесали и помалкивали. Или честно говорили: не знаю и не понимаю. А Гавриил Харитонович учил и наставлял.
Ещё мне интересно сейчас вспомнить про гласность. Когда гласность набрала силу, и советскому народу начали рассказывать о сталинском режиме, потом вываливать всю правду про Ленина и про социализм – люди читали и смотрели на это с очень большим интересом. Тиражи московских журналов выросли в десятки раз.
Именно в интересе народа к такому чтению черпали вдохновение прорабы перестройки. «Смотрите, — говорили они, — как жадно тянутся наши люди к Правде. В этом залог необратимости демократических перемен и возрождения страны».
Но потом на экраны вышла «Рабыня Изаура», появились романы про Бешеного, книжки Донцовой, и советский человек с удовольствием на всё это переключился. Оказалось, что многим просто хотелось интересного чтения и занимательного кино.
Может, надо было сразу дать нашему человеку рабыню Изауру? А то ведь он начитался разной дряни из «Огонька» и «Московских новостей», сделал вывод, что вся российская и, тем более, советская история – дерьмо и больше к данному вопросу не возвращался.
– Просто накопилось много, э-э-э… невысказанного за семьдесят лет. Вот в конце 80-х данный концентрат и вылили народу на голову. Это должно было случиться.
Продолжение следует
***
© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.