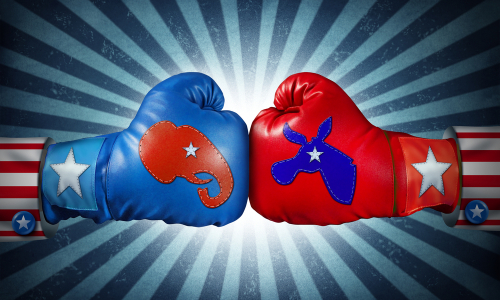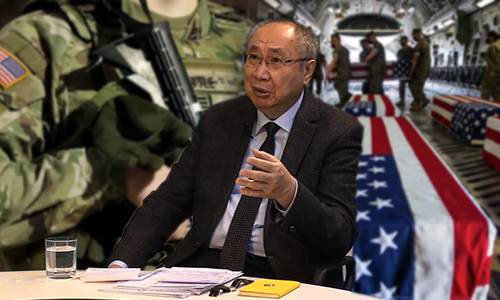Утром приехал друг Розы. Имени его не помню. Пусть будет Рихард. Обычного человека так не назовут. Рихардами были Вагнер, Штраус, Зорге, наконец. А друг Розы Фибер был явно не из простых. Это бросалось в глаза.
Прежде всего, усы. Не кавалерийские заросли, сквозь которые рта не разглядеть, и не мохнатое чудовище, застрявшее в прыжке между носом и верхней губой Ницше, а холёные, тщательно расчёсанные, нафабренные, набриолиненные, нафиксатуаренные шнауцбарты с лихо закрученными кверху концами.
Я такие видел лишь на мутных дагерротипах, с которых прилежно пялились родовитые баварцы 19 века. Впрочем, вскоре выяснилось, что Рихард и был баварец.
О, это особая порода немцев, которые таковыми себя, строго говоря, не считают.
Вообще, «немцы» — это понятие несколько условное. При ближайшем рассмотрении они дробятся на швабов, саксонцев, франконцев, пруссов, баварцев…
***
Рихард был спесивый щёголь, надменный красавчик при понтах, главным из которых был его BMW — густопсовый баварец ничему иному свою плоть не доверит.
Я тупо равнодушен к автомобилям, не разбираюсь в их мастях, марках и погонялах. Едет, и ладно. Но рихардовская тачила и меня пленила. Дивная смесь эскадренного миноносца с хищной акулой и атомной субмариной, сияющей черными молниями. Я глазел на неё, как деревенский дурак, впервые попавший в музей Юрского периода, где кобенится, скалится и роет лапой живой тираннозавр. Рихард бродил рядом, как легендарный жокей вокруг призовой кобылы, смахивая с её боков невидимую пыль. Заметив моё остолбенение, он ткнул пальцем в брелок, и багажник, обширный, как бомбовый отсек, беззвучно откинул крышку, являя взору многоэтажные батареи пивных бутылочек и баночек, готовых откупориться с радостным шипением рассерженной кобры. С таким запасом напитков можно пересечь вдоль и поперёк Сахару, сказал я уважительно. «А пиво при этом останется холодным, — скромно добавил Рихард. — Этот багажник ещё и холодильник». Он вручил мне баночку ледяной фанты и жестом позвал к остроносому капоту, который так же беззвучно раззявил пасть.
Нутро зверя смахивало на больничную операционную, которую только что прокварцевали жёстким ультрафиолетом; оно сверкало никелем, легированной сталью, серебристым чугуном, тускло бликовало цинком, титаном и магнием, а пучки красно-синей изоляция напоминали узлы артериальных и венозных сосудов, туго набитых гемоглобином. Я присвистнул и восхищённо выматерился. Нужно было сказать что-то более внятное, но я безмолвствовал, вспоминая свою ржавую «Копейку» с изгвазданным движком.
— Ты имеешь в своей стране какое-нибудь ауто? — сдержанно поинтересовался баварец. Я осторожно кивнул, тоскливо соображая, как перевести слово «копейка» на немецкий.
— Сколько цилиндров имеет двигатель твоего ауто? — не унимался усач. Я пожал плечами. И ответил наугад: кажется, четыре…
— Хох! — торжествующе воскликнул Рихард и указал полированным пальцем под капот. — Здесь 12! И эта модель выполнена по моему личному заказу.
— Одуреть, — сказал я злобно. — Но что-то я не вижу аккумулятора…
— Хох! — взликовал наездник. — Батарея есть, но она больше, чем у танка, и расположена под днищем этого зверя! Unter dem Bauch dieses Tieres!
Он сиял.
Следует напомнить, что дело было в начале 90 х, когда на родине едва-едва завелись пожилые праворульки, ловко снующие меж задастыми Нивами и задроченными шо́хами.
***
Вскоре заявилась Роза с новой гостьей. Назову её просто Мария. Это была крупнокалиберная, исполинского роста москвичка, увешанная металлическим ломом. Там были кандальные браслеты на запястьях, каторжная цепь, обвивавшая борцовскую шею, а за отвисшие мочки ушей цеплялись гигантские круги, сквозь которые могли прыгать цирковые дельфины. Москвичка оказалась редактрисой центрального телевидения в поисках бывшего военнопленного деда, устроившего в своём доме музей русской культуры. Жил он где-то в Вецларе, недалеко от Фульды.
Просто Мария разбодяжила патриархальную тишину немецкого городка басовитым хохотом и отчётливым, как эхо выстрела, мáсковским áканьем. На её верхней губе пробивались колкие пеньки сбритых усиков с жемчужными капельками пота. В лошадиные зубы она то и дело вставляла стройную и смуглую пахитоску, предварительно отломив от неё кончик. Закуривала она каждые четверть часа.
Вот и поехали с орехами. Искать военнопленного деда, русского полпреда.
***
Рихардовский бумер, утробно урча, деловито выбрался на Autobahn и притопил. Мы шли по левой полосе, где ограничителем скорости является двигатель и Господь Бог. Заглядывая через плечо водителя, я фарил спидометр: 120. 150. 180. Чёрт. Это уже взлётная скорость Мессершмита.
— Richard, sei bitte vorsichtig! — деликатно пискнула Роза, сидевшая рядом. Будь осторожнее…
Тот учтиво буркнул, и стрелка спидометра упёрлась в 220. С такой скоростью по тверди земной я ещё не передвигался.
Странно, но она никак не ощущалась. Слева от нашего болида лежала граница, разделявшая Autobahn, а справа виднелись машины, которые почему-то стояли. Чуть позже допёр: они едут, но мы их обгоняем столь молниеносно, что черепашья поступь этих жестянок глазу не видна.
На горизонте возникла точка, спустя пару секунд она распухла в кляксу, которая грозно увеличивалась на нашей полосе. Рихард рыкнул и приступил к экстренному торможению — бэмвуха недовольно затрепетала и заскулила, а роковое препятствие неотвратимо приближалось. Это был старый фольксваген с не раз битой задницей и польскими номерами, в которые стремительно летела наша атомная акула. Роза отчаянно заголосила, но её предсмертный стон потонул в яростной сирене, которую врубил Рихард.
Гольф увернулся в последний миг, его чуть не опрокинул воздушный хвост нашей двенадцатицилиндровой ведьмы. Рихард шумно и коротко выдохнул, высунул в форточку руку, из кулака которой торчал средний палец: fuck you! Роза, отняв ладони от лица, нежно поблагодарила Бога: Herrgott, ich danke Dir! А просто Мария, пробудившись, раскатисто зевнула и заявила, что у неё пухнут уши.
— Was fehlt? — сквозь зубы спросил Рихард, заново выжимая педаль газа. Чего она мается? Узнав, что дама зверски хочет курить, он хмыкнул и ткнул пальцем в панель. Из всех динамиков грянули тирольские переливы — йо-йо-йо-хохо-хо-хо!
И под лихие раскаты йодлеров мы взлетели на высотку, с которой открылся Вецлар, томно возлежащий среди долин и предгорий.
***
Это город Гёте. Здесь он страдал, здесь он любил, здесь сердце он похоронил. И сочинил из амурного праха знаменитый роман о Вертере. Горожане трогательно чтят книжных героев, назвав именами рокового треугольника улицы: LottaStraße, WertherStraße, AlbertStraße. На памятной доске фахверкового дома значилась дата написания романа — 1772. Я прикинул, что мои пращуры в это время уже несколько лет ковыряли целинные залежи волжских степей, отстраивая первую немецкую колонию Balzer, где спустя полтора века появится на свет моя бабка — Амалия Кёлер.
Просто Мария не знала адреса хранителя русского музея, поэтому мы поехали в Rathaus, в мэрию. Они пошли в разведку, а я забрёл в первую попавшуюся пивнушку, Kneipe. Из любопытства — к пиву я прискорбно равнодушен. Кнайпа была пуста, чиста, но по-своему живописна: деревенские столы без скатертей, табуреты, годные для дрессировки слонов, скрипящие артрозом венские стулья, пара просиженных кресел, пыльная пальма в углу, а по стенам портреты местных алкашей Один из пеннеров напоминал Черчилля. Пахло дрожжами и трубочным табаком. Я заказал кружку Pilsener, выбрал место у окошка, чтобы видеть наш бумер, и запалил беломорину.
Стена над барной стойкой было грубо размалёвана бодрым девизом:
Wenn du trinkst, stirbst du. Wenn du nicht trinkst, stirbst du trotzdem. Also trink! (Если пьёшь, сдохнешь. Если не пьёшь, всё равно сдохнешь. Так пей!)
Приплыла с пивом корпулентная барменша в баварском костюме. Из корсета со шнуровкой вываливались млечные полушария. «Что за говно ты куришь? — спросила она хрипло, выстроив домиком пиявочные бровки. — Аж глаза режет!» Я угостил её папироской. Она затянулась и выпустила дым с блевательным звуком: бэ-э-е… Это наркотик? И уплыла за барную стойку.
Нарисовался небритый, но свежевыглаженный старикан в тирольской панамке, он кивнул барменше и бросил на ходу — wie immer! (как всегда). И без спросу уселся за мой столик.
— Унд, — сказал он, рассматривая меня колючими зрачками. — Одинокое пиво в чужом городе? Знакомо. Я был дальнобойщик. Ты откуда, парень?
Я ответил, что из Казахстана.» А-а-а, Russland, — кивнул он понимающе. — А что здесь забыл?»
— Собираюсь снимать кино о русских немцах.
— Ты тоже фольксдойч? Извини за это слово, я по привычке. Как твое имя?
Барменша пришвартовалась к столику и поставила перед стариком чарку анисовой водки.
— Рерих, — кратко доложил я.
— Oh, mein Gott! — вскричал он, вытаращив глаза. — Тогда твои корни из Гессена. Эта фамилия встречается только здесь. Твои предки были гугенотами. Прозит!
И молодецки завалил стопарь.
Я глотнул Pilsener и подумал: «Только гугенотов мне и не хватало»…
***
Выяснилось, что хранитель музея откочевал в Ной-Изенбурген, где захворала его 60 летняя падчерица.
Рванули туда.
Райцентр этот показался мне аккуратной, пресной, безликой немецкой дырой, состряпанной из пасхальных домиков с карамельными крышами и бонсайских садиков, населённых гипсовыми гномиками. Я втянул ноздрями приторный запашок рапсового благополучия и вспомнил склеротические карагачи замшелого городка, где вылез на свет. В таких скудоумных местечках Вертеры не рождаются, только лохи. Дыра по-немецки — Loch.
Местный Rathaus оказался наглухо закрыт — германские чиновники напрягаются только до обеда. Но к зданию акимата, слегка косившего под модерновую кирху, пристроилась длинная, как товарняк, крахмально выбеленная казарма с окнами, полуприкрытыми голубенькими ставнями — там приглушённо бабахала, визжала и вздыхала маршевая дурь духового оркестра. Едва мы туда направились, как бал кончился, и навстречу хлынул спёртый воздух, подгонявший стайку подслеповато моргающих бюргеров с мирным вооружением: гнутыми в три погибели альтами, гаубичными ту́бами и хищными, как снайперская винтовка тромбонами. «Ни хренасе, — обронила ошеломлённая просто Мария, закуривая. — У них что, в каждой деревне такая дискотека?».
Последним выкатился деликатного размера пожилой барабанщик, его инструмент, сросшийся с туловищем, смахивал на брюхо беременного лилипута. Он расслышал басовую реплику Марии и остолбенел, подняв руку с зажатой в кулак колотушкой. Казалось, сейчас он звезданёт её по башке. Мы подтянулись к москвичке, подперев её с флангов. Но коротышка тюкнул дубиной в барабанью шкуру и вскричал: «Си рус? Боже! Я сом рус, я сом Вацлав!». Рихард скосил глаз на Розу и процедил сквозь сахарные зубы: «Oh, Gott, was murmelt er da?». Что он там лопочет? Роза перевела вполголоса: он русский. Но язык у него какой-то странный. «Шайзе, — подытожил Рихард. — Он просто псих…».
— Найн! — гневно вскричал барабанщик. — Ich bin kein Idiot! Mein Vater war Slowake. Aber ich bin Russe! Мой ойтец йе словак, але он бол у Стали́новом гулаге. Он стал рус, и я сом рус!
Вацлав стащил с себя адское колесо, сунул колотушку за пояс штанов, молитвенно сложил руки и принялся по-немецки уговаривать нас посетить его дом. Русские, сделайте меня счастливым! Я разглядел наконец, он был адски похож на Швейка в исполнении Йозефа Лады.
Рихард брезгливо сморщился и заметил, что он вообще-то баварец, а просто Мария взволнованно залепетала: «Настоящая русская здесь только я, притом из Москвы!» Вацлав застонал и бросился целовать её руки, а Роза Фибер просительно обратилась к другу: ну давай заглянем на полчаса? Тот махнул рукой, и мы поехали. Словак по дороге поведал, что дома у него жена, страдающая от рака, но это ничего не значит, kein Problem, махт никс. Роза сочувственно спросила, как давно болеет супруга? Вацлав тяжело вздохнул и сумрачно поведал — 16 лет… «Ни хренасе, — восхищённо изумилась Мария. — Вот какая живучая германская нация!».
Дом Вацлава стоял в конце улицы, уползающей в лес. Он походил на двухэтажный тортик — сливочный, зефирный, кремовый, ванильный, покрытый сверху черепичной глазурью. Как все немецкие дома, он выглядел мучительно ухоженным, засахаренным, увитым плющом и диким виноградом, крадущимся по стерильному фасаду. Яблоньки, груши и сливы росли в саду не толпой, а выстроившись, как пансионерки перед конфирмацией. В смородинных кустах деловито застыли гипсовые гномики с лагерными тачками, а по дальним углам участка высились рослые берёзы, неуловимо смахивающие на зоновские вышки.
На дощатой террасе, выходящей в сад, покоилась на моторизованном кресле с подножием лимфатически одутловатая хозяйка, укутанная пледами и обложенная подушками. Вокруг восседали пергидрольные клушки-подружки с густо намазанными ртами. Вацлав представил нас своими русскими друзьями. Мы не сделаем тебе беспокойство, Марта, мы пойдем ко мне, добавил он щенячьи заискивающим голоском. Марта измученно растворила губы, обнажив розовые дёсны и пористую желтизну протезов. Её улыбка была кислой и горькой, как двухнедельный айран, забытый на солнцепёке.
Мы неловко раскланялись и поспешили за Вацлавом. Он влёк нас куда-то в глубину сада, огороженного по периметру стеной ровно подстриженного, пуленепробиваемого кустарника, кусачего, как пограничная колючая проволока. Но в одном месте оказался пролом, куда ловко нырнул хозяин, побуждая нас к тому же. Миниатюрная Роза белкой шмыгнула за ним. Рихард, плюясь и чертыхаясь, сел на корты и преодолел тоннель гусиным шагом. Просто Мария опустилась на четвереньки и ослицей потрусила на ту сторону, охая, ворочая крупом и звеня металлическими прибамбасами. Цигарку она не выплюнула.
Последним пластуном был я.
***
И открылась взору крутая русская изба, сложенная из корабельных брёвен, скреплённых в венцах угловыми врубами. Три пары окон с кудрявыми наличниками глазели на нас с малахольным простодушием деревенской дурочки. Ставни были распахнуты, как для объятия, уютное крылечко манило к железному колечку, пристёбанному к полураскрытой двери.
— Йезус Мария, — ошеломлённо простонал Рихард. — Was ist das?
— Это сказка, — ответила Роза по-русски. — Я сплю, мне это снится.
«Ни хрена себе, сказал я себе!» — восхищённо срифмовала Мария и вставила в рот пахитоску, хотя там ещё дымился прежний окурок.
Вацлав, узрев наше остолбенение, визгливо хохотал, приплясывая и похрюкивая от удовольствия: «Добрьо пожаловацься!»
Вошли в горницу. С потолка свешивалась на корабельной цепи исполинская керосиновая лампа с абажуром; в углу громоздилась кособокая пирамида русской печи, её арочная пасть была хозяйски прикрыта подкопчённым намордником, в боках зияли колумбарные ниши, заполненные генеральскими самоварами; вдоль стен, обшитых морёным горбылём, простирались широкие лавки с тюфяками и лоскутными корпе́шками.
Были даже полати…
Вацлав суетливо рассадил нас на самшитовые скамьи вокруг выскобленного стола, надёжного, как дубовый гроб шестипудового купца, и принялся накрывать поляну. Он с усилием бурлака потянул на себя танковую крышку люка, открывшую вход в келлер, и поманил меня на помощь. Подвал был вроде бункера, обширный и опрятный, к выбеленной кирпичной кладке крепились гигантские, как железнодорожные платформы, пóлки, на которых маячили крупнокалиберные бутыли, высились мутные четверти, синие штофы, лежали, как бронебойные снаряды, винные ботлы всех мастей; вокруг кучковалась прочая питейная мелочь и сволочь. Свиные и телячьи окорока, подвешенные к потолку, раскачивались, как удавленники.
«Соғым!» — мысленно вскричал я про себя.
Вацлав не утруждался изысками: на циклопическое блюдо с у́шками и круговой надписью из немецкого отченаша — gib uns heute unser tägliches Brot, хлеб наш насущный даждь нам днесь, — навалил гору ветчины накромсанной австрийским штыком, выставил питейную посуду, где бокальчики для рождественского глювайна соседствовали с приталенными турецкими стаканчиками и солдатской кружкой из помятого алюминия; выудил из печи ржаной каравай, разломив его ломтями, и закончил сервировку бутылями, таящими в себе прельстительный яд всевозможных настоек.
В общем, пир духа.
Понеслось.
***
Рихард личным швейцарским ножиком отделял тончайшие пластинки шпика, отправлял их в рот и одобрительно рассасывал; для него нашёлся бутылёк баварского пива. Роза Фибер лакомилась розовыми лепестками прошутто, окуная язычок в мозельское. Мы с Марией ударили по настойкам. Мне по нраву пришлось чесночная, и я её многажды повторял, закусывая вестфальской ветчиной и шпикачками. Телевизионщица хлопала стакашек за стакашком: лимонную, перцовую, рябиновую, имбирную и анисовую, найдя чесночную вульгарной. Хамон заедала сальтесоном. Вацлав ею любовался и, неустанно подливая, рассказывал гостям про своё диковинное жилище, которое он выписал из Рязани. Пронумерованные брёвна доставили ему домой вместе с инструкциями и схемами; дармштадские турки за две недели избу собрали. «Тото́ е мо́е Руско, мой домо́у! — плаксиво причитал он. — Ту будем жичь, ту зомрием!».
Мария, уже въехав по уши в словацкий, утирая тыльной стороной ладони сальные губы, растроганно хлюпала носом, всхлипывая басом: «Славик! Не умирай, живи долго! Я сделаю про тебя кино, мамой клянусь! Ты самый русский из всех русских! Я такая же. Я тоже русская, хоть мой папа, блин, еврей, а мама, мля, наполовину армянка. Но я русская!». Я сдуру вклинился, напомнив, что названия всех этносов выражаются существительными, и только «русские» — прилагательное. Роза Фибер горячо озадачилась словосочетанием «русские немцы», наконец, Рихард утомившись гвалтом, вдруг отчётливо произнёс: «Рюсски-рюсски жёпа узки!». Все, включая Вацлава, оглушительно грохнули, а Роза сквозь смех пояснила, что этих словечек баварец нахватался пару лет назад во Фрунзе, куда они доставили грузовой АН гуманитарки, которую он сам же и оплатил. Вот тебе и понторез, подумал я.
— Ach ja, Frunze, das ist ein komisches Wort! — польщённо произнёс он, подкручивая ус.
— Рихард находит название «Фрунзе» смешным, — пояснила Роза. — Оно напоминает старое немецкое слово «brunzen», что значит делать пи-пи, сходить по-маленькому…
— То есть поссать, — невозмутимо уточнила просто Мария, закуривая пахитоску задом наперёд.
Тут все снова заржали, включая Рихарда, а я отполз в угол, прилёг на лавку, зарылся в корпе́шку и замкнул на массу.
Очнулся в напряжённой тишине, в ней булькал мирный баритончик немецкого диктора, шёл выпуск новостей ZDF. Все старательно пялились в экран маленького телика, мерцающего на огромной пивной бочке, стоявшей возле русской печи. Президент Чехо-Словакии Вацлав Гавел подал в отставку, сообщил хмырь. В знак протеста против расчленения страны.
Вацлав жёстко крякнул и, глядя Рихтеру в лицо, неожиданно выдал на чистом русском чистый блатняк:
— Эх, огуртчики мои, помидортчики, Сталин Кирова убил в коридортчике. Ка́лина-ма́лина, хвуй большой у Сталина…
Господи, откуда он это взял? Не иначе, отец, бывший з/к, напел в уши когда-то.
— Was, zum Teufel, hat er vor? — Что за хрень он несёт, раздражённо спросил Рихард.
— Я сказал, — ответил по-немецки Вацлав, — что теперь Чехия сожрёт Словакию, так же, как вы сожрали DDR. Вы всё сожрёте, но Россией подавитесь, jebni tvoju matku, — закончил он.
— Nun Schluss! — взревел баварец. — Ich habe die Schnauze voll, я сыт по ноздри этими приключениями. Поехали!
***
Возвращались по темноте, но Autobahn мелькал искрами, пылал кипящей лавой, а встречный поток казался трассирующими очередями крупнокалиберного пулемёта. Рихард держал 180, йодлеры драли горло, и всё это казалось кинофильмом из заграничной жизни.
Но Мария заметно куксилась, часто и глубоко вздыхала, сплетала и расплетала могучие ноги, оглаживала бугристые колени, трясла головой и, уперевшись кулаками в сиденье, слегка подпрыгивала. «Вы курить хотите?»- сочувственно спросил я. Она ответила резко: «Нет. Не до курева мне сейчас, Вова.» Подёргалась ещё минуты три и завела душевный разговор:
— Розочка, какой хороший дом у Вацлава! Всё там есть, живи — не хочу, а вот туалета не приметила. Куда он ходит в смысле облегчиться? В кусты, что ли? Хоть бы дощатый сортир поставил…
— У него есть капитальный дом, туда и ходит. А от наружного сортира вонь.
— А ночью? Не лень ему через эту дыру ползать? А дождь?
— Ну, не знаю. Возможно, у него есть ночная ваза.
— Горшок, что ли? Понятно.
И пробурчала под нос: «Мне бы сейчас эту вазу…».
Она ёрзала ещё четверть часа и, не выдержав, взмолилась:
— Розочка Фиберовна, вы как хотите, но я уже не могу. Скажите Генриху, тьфу, Адольфу, тьфу, как его, аж забыла, пусть сделает остановку на три минуты хоть. Я хочу пи́сать! — взвыла Мария благим матом.
«Что опять стряслось? — флегматично осведомился Рихард у Розы. — Она сердится?».
— Sie will unbedingt pinkeln, — деликатно пояснила Роза.
— O Gott! — воскликнул несчастный баварец. — Ближайший туалет через 30 минут. Она может потерпеть? Здесь останавливаться нельзя! Ни в коем случае!
Бедная Мария обречённо скрипнула зубами, согласилась, но через минуту, сунув кулаки в промежность и суча ногами, заголосила, сильно нажимая на московский говорок: «Ну эта́ ваабще! Эта́ издева́тельства над чла́веком! Роза, я не выдержу, я пряма здесь щас уссу-у-ся-а!».
Рихард рыкнул и стал тормозить, не перебравшись на менее скоростную полосу, за что и был тут же наказан: в спину нам ударил ослепительный сноп прожекторного света, и взвизгнули чьи-то тормоза, и завыла, как по покойнику, дикая сирена.
Мы едва увернулись от раскалённого метеорита, он промчался мимо со сверхзвуковой скоростью, и наш BMW качнуло его хвостовой волной, словно утлую лодочку, но мы успели разглядеть, как в форточку уносящегося чёрта высунулась рука со сжатым кулаком, из которого торчал средний палец — fuck you! «.
Herrgott, ich danke Dir!» — привычно поблагодарила Роза своего Бога и тихо заплакала.
Рихард включил аварийку и осторожно пришвартовался к обочине. Мария пробкой вылетела наружу и на четвереньках, по собачьи, стала карабкаться по очень крутому склону, поросшему кусачим, как колючая проволока, кустарником.
***
Как вам будет угодно, но всё изложенное в этом рассказе — правда, а всё рассказанное — вымысел.
Кроме даты. Её с помощью историографии можно доподлинно установить, а именно: 20 июля 1992 года. В этот день Вацлав Гавел действительно подал в отставку. И он останется навек во Всемирной истории — в отличие от нас, наших глупостей и мелких злодейств. Они исчезнут. Но не полностью, иначе зачем я это всё рассказал, а вы прочитали? Важно, чтобы похожий на Швейка гессенский Вацлав, прикольный, нелепый, трогательный человечек, отставной козы барабанщик, подкаблучник, полусловак-полунемец, записавшийся русским, тоже остался в потоке времени.
Я так думаю!
Кстати, роясь в истории русских немцев, я нашёл документ, свидетельствующий, что мои пращуры, соблазнившиеся Указом Екатерины II, пришли на Волгу именно из этого гессенского городка, который тогда назывался Изенбурген! В ревизских списках Бальцера за 1765 год, я нашёл фамилию Рёрих. Выходит, прав был тот старик из кнайпы, рассказавший мне о гугенотах. Столетия сгрудились и зашумели за моей спиной.
Всѣмъ иностраннымъ прiбывшимъ на посѣлѣнiя въ Россiю учинѣны будутъ всякiя вспоможѣнiя и удовольствiя…
Из Манифеста Екатерины Второй от 1763 г июля 22 дня.
Но это уже другая история, продолжение которой следует…
***
© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.